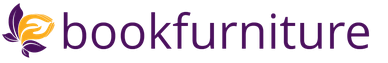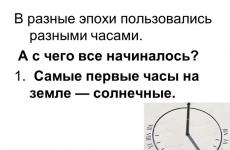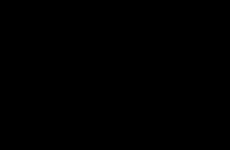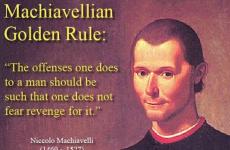Байки о Сталине. Воспоминания. Рассказы маршалов о сталине Кому мемуары о сталине стоили жизни
Мне довелось беседовать с десятками людей, работавших с И.В. Сталиным или хотя бы встречавшихся с ним. Кое-что вошло в мои книги, статьи, стихотворения, но, конечно, не все.
Нередко в дружеских беседах я рассказывал то, что слышал на протяжении многих лет. Друзья убедили меня, что это пропадет, забудется, нужно записать... Вот то, что вспомнилось...
Засядько
Обсуждалась кандидатура на пост министра угольной промышленности. Предложили директора одной из шахт
Засядько. Кто-то возразил:
— Все хорошо, но он злоупотребляет спиртными напитками!
— Пригласите его ко мне, — сказал Сталин. Пришел Засядько. Сталин стал с ним беседовать и предложил
выпить.
— С удовольствием,— сказал Засядько, налил стакан водки:
— За ваше здоровье, товарищ Сталин! — выпил и продолжил разговор.
Сталин чуть отхлебнул и, внимательно наблюдая, предложил по второй. Засядько — хлобысь второй стакан, и ни в одном глазу. Сталин предложил по третьей, но его собеседник отодвинул свой стакан в сторону и сказал:
— Засядько меру знает
Поговорили. На заседании Политбюро, когда снова встал вопрос о кандидатуре министра, и снова было заявлено о злоупотреблении спиртным предлагаемым кандидатом, Сталин, прохаживаясь с трубкой, сказал:
— Засядько меру знает!
И много лет Засядько возглавлял нашу угольную промышленность...
Проблема долголетия
Академик А.А. Богомолец выдвинул теорию долголетия, и Сталин дал ему под это дело институт. Однако сам академик умер в 1946 году, прожив всего 65 лет.
— Всех надул! — сказал Сталин, узнав о его смерти
Хлебозаготовки
Однажды во время обсуждения хлебопоставок, в начале 30-х годов, секретарь одной из областей сострил, говоря о том, что его область не может поставить больше зерна:
Как говорят французы, даже самая прекрасная женщина не может дать больше того, что у нее есть
Сталин поправил:
Но она может дать дважды
Булганин
После войны Н.А. Булганина назначили министром обороны, и он стал готовиться принимать парад — учиться ездить верхом. Ему привели самую смирную кобылу, и он тренировался в кремлевском дворе. Вышел Сталин, посмотрел и сказал:
— Ты сидишь на лошади, как начальник военторга!
Сразу возникает штатский облик Булганина с бородкой и в военной форме... Парад принимать стали на автомобилях.
"Все-таки в чувстве юмора Сталиye не откажешь!" — смеялся генерал-полковник А. Н. Пономарев, рассказавший мне этот эпизод.
Представляя Мао Цзэдуну киноактера Бориса Андреева, исполнившего главную роль в фильме "Падение Берлина", Сталин сказал:
— Вот артист Борис Андреев. Мы с ним вдвоем брали Берлин.
Об этом мне рассказал присутствовавший на этом приеме писатель Михаил Бубеннов, автор знаменитой в то время "Белой березы".
Когда Мао Цзэдун был у Сталина, он попросил разрешения поселить 20 миллионов китайцев на советском Дальнем Востоке.
— У меня своих 200 миллионов хватает, — ответил Сталин.
Без псевдонимов
Сталин приехал на спектакль в Художественный театр. Его встретил Станиславский и, протянув руку, сказал:
— Алексеев,— называя свою настоящую фамилию
— Джугашвили, — ответил Сталин, пожимая протянутую руку, и прошел к своему креслу
Артист и народ
После оперы, где одну из партий исполнял артист Большаков причем не совсем удачно, Сталин спросил:
— Он что, Народный артист СССР?
— Да, товарищ Сталин.
— Какой щедрый у нас народ! - заметил Сталин.
Певец Рейзен был любимцем у Сталина. Он заметил его еще в тридцатые годы, перевел из Ленинграда в Москву.
Рейзен пел на всех правительственных концертах. Позвонил ему Поскребышев:
— Марк Осипович, вы сегодня поете, мы пришлем за вами машину
— Нет, вы знаете, я не смогу: меня уволили из Большого театра
Но Поскребышев знал: Сталин заметит, что концерт прошел без Рейзена.
— Мы за вами пришлем машину, Марк Осипович. ...
В кремлевском кабинете ходил Сталин. Перед ним навытяжку стоял Беспалов. Когда в кабинет вошел Рейзен,
Сталин, указывая на него, спросил:
— Это кто?
— Рейзен, товарищ Сталин.
— Народный артист Советского Союза?
— Да, товарищ Сталин.
— А ты кто?
— А он кто?
— Народный артист Советского Союза Марк Осипович Рейзен!
— Солист Большого театра?
— Так точно, товарищ Сталин.
— А ты кто?
— Председатель Комитета по делам искусств Беспалов!
— А он кто?
— Народный артист Советского Союза солист Большого театра Союза ССР Марк Осипович Рейзен!
— Он солист, а ты говно! Вон отсюда!
"Иван Сусанин"
В Большом театре готовили новую постановку оперы Глинки "Иван Сусанин". Послушали члены комиссии во главе с председателем Большаковым и решили, что надо снять финал "Славься, русский народ!" — церковность, патриархальщина... Доложили Сталину.
— А мы поступим по-другому,— сказал Сталин, — финал оставим, Большакова снимем.
Вынужденная остановка
Разные люди, которым довелось смотреть кинофильмы со Сталиным, рассказали мне много эпизодов на эту тему.
Вот один из них. В 1939 году смотрели Поезд идет на восток. Фильм - не ахти какой: едет поезд,
останавливается...
— Какая это станция? — спросил Сталин
— Демьяновка
— Вот здесь я и сойду, — сказал Сталин и вышел из зала
"Кремлёвские куранты"
Оказывается, по пьесе Н. Погодина "Кремлевские куранты" был снят и художественный фильм. Сталин его посмотрел и сказал:
— А что, русского не нашлось, чтоб эти часы запустить?
Дело в том, что роль наладившего главные часы страны в фильме исполнял еврей. Картина не пошла, так мы ее и не видели.
"Незабываемый 1919-й"
После правительственного просмотра фильма Незабываемый 1919-й все ждали, что скажет Сталин. Но он молчал. И лишь, выходя из зала, изрек:
— Слишком много света! И все.
Создатели фильма обратились к Берии, чтобы он разъяснил значение этих слов.
— Двух солнц не бывает! — истолковал Лаврентий Павлович.
В фильме было много Ленина и Сталина, и Ленина пришлось подрезать. Хотя, скорей всего, Сталин имел в виду другое: парадность, отрыв от реального...
Писатели
Сталин говорил:
— Художественному произведению нельзя выносить приговор — о нем можно только спорить.
Когда создавали издательство "Советский писатель", Сталин сказал, что это издательство Союза писателей и теперь Пушкину и Толстому негде будет издаваться. Нужно еще одно издательство. Так возникло издательство "Художественная литература".
Партийному работнику Поликарпову сообщили, что хотят направить на работу ответственным секретарем в Союз писателей. Поликарпов взмолился:
— Я привык работать с нормальными людьми, а писатели— они же пьяницы, совершенно неуправляемые...
Когда об этом доложили Сталину, он сказал:
— Передайте товарищу Поликарпову, что других писателей у меня нет.
Ираклий Андроников ловко изображал различных деятелей, умел копировать и Сталина. Тот узнал об этом и при встрече попросил изобразить его.
— Вас — нэ решаюсь! — сказал Андроников, сделав жест рукой с воображаемой трубкой
Писательницу Веру Панову за новый роман представили к Сталинской премии — в третий раз после того, как она за предыдущие романы получила премии первой и второй степени последовательно. Комитет, прочитав роман, решил на этот раз ей премию не присуждать. Но вмешался Сталин:
— Давайте дадим — третьей степени. Но передайте товарищу Пановой, что четвертой степени у нас нет.
Сталин спросил у Фадеева, почему не выдвинули на соискание Сталинской премии писателя С. Злобина за роман "Степан Разин". Фадеев ответил, что Злобин не занимается общественной работой, его нигде не видно...
— А может, он в это время пишет? — спросил Сталин
Секретари
Сталин позвонил в Союз писателей, но его не смогли соединить ни с Фадеевым, ни с Сурковым — ни с кем из
руководства. Отвечали только их секретари. Сталин спросил у членов Политбюро:
— Почему погибла Римская империя? — И сам ответил:
— Потому что ею стали управлять секретари!
Демьян Бедный
Сталин сказал Демьяну Бедному:
— Вы знаете, почему вы плохой поэт? Потому что поэзия должна быть грустновата.
Разговор с Пастернаком
Ночью раздался телефонный звонок в квартире Пастернака:
— С вами говорит некий Сталин. Борис Леонидович, что вы думаете о поэте Мандельштаме?
Пастернак, знал, что Мандельштам арестован, и сказал:
— Иосиф Виссарионович, давайте поговорим о чем-нибудь другом
— Товарищ Пастернак, — ответил Сталин, — в свое время мы лучше защищали своих друзей! — И
повесил трубку
Говорят, после гибели Мандельштама совесть мучила Пастернака всю жизнь...
Подумай о своём
Артист Абрикосов на приеме в Кремле крикнул:
— За ваше здоровье, товарищ Сталин! — и выпил стакан водки залпом.
Сталин тихо сказал ему:
— Почему вы допиваете все рюмки? С вами будет неинтересно беседовать.
Об этом мне рассказал С.В. Михалков
Все — За, Один — Против
За одну из своих симфоний был выдвинут на соискание Сталинской премии по предложению Жданова композитор
Голубев. Все знали, чей он протеже, и не сомневались, что премию он получит, к тому же первой степени. Когда
списки лауреатов принесли на подпись Сталину, он спросил:
— Голубев... Симфония... Все— за, один— против. А кто этот один?
— Шостакович, товарищ Сталин
— Товарищ Шостакович понимает в музыке больше нас, — сказал Сталин и вычеркнул Голубева из списков
лауреатов. Симфония и вправду была слабой, но все голосовали за...
Сын царя - "миротворца"
Государь Александр III в одной из своих поездок согрешил с некоей особой простого звания, которую просил сообщить ему, если вдруг кто родится у нее. В положенный срок государь получил извещение, что родился мальчик. В ответ пришла высочайшая телеграмма: "Отроку дать имя Сергий, отчество мое, фамилия — по прозвищу".
Так и появился на свет Сергей Александрович Миротворцев. В своё время он сумел избежать трагической участи царской семьи, ибо не распространялся о своем происхождении. Однако позднее, в тридцатые годы, чекисты раскопали, чей он отпрыск, и стали готовить его дальнейшей судьбе соответствующий эпохе удел.
Бумага о нем поступила Сталину, и тот написал на ней следующую резолюцию: "Он не виноват, что его отец был такой блядун". С.А. Миротворцев стал профессором, имел заслуги и получил Сталинскую премию.
Молотов рассказывал, что над Сталиным, когда он плавал по Черному морю на пароходе "Троцкий", подшучивали из Политбюро:
— Долго ты еще будешь на Троцком ездить? Из Одессы зато Троцкий отплывал навеки за рубеж на пароходе "Ильич". Может, случайность...
А когда еще до этого он отправлялся с огромным количеством багажа на поезде малой скоростью в ссылку в
Алма-Ату, он выяснил у Сталина:
— Тише едешь, дальше будешь?
— Дальше едешь, тише будешь, — уточнил Сталин.
И Будённый...
Сталин отправился отдыхать на Кавказ. Его сопровождали соратники. Поезд остановился в Ростове-на-Дону. Было это в начале тридцатых, и с охраной еще не очень усердствовали. Из вагона вышел Ворошилов. Народ на перроне не ожидал явления наркома обороны и охнул от изумления:
— Ворошилов!!!
За ним вышел глава правительства, и еще более опешивший народ воскликнул:
— Молотов!!!
Ну, а когда на перроне появился Сталин, тут уж люди как бы сами собой выстроились и зааплодировали.
Сталин, как обычно, поднял руку, приветствуя и в то же время останавливая овацию. Когда шум утих, из тамбура внезапно показался замешкавшийся Буденный. И на перроне какой-то казачок воскликнул:
— И Будённый, ёб твою мать!
Казалось, что после выхода Сталина уже ничего не могло случиться — ан нет! Все дружно захохотали, в том числе и сам Сталин. С тех пор, когда сталинское руководство собиралось вместе и появлялся Семен Михайлович, Сталин неизменно говорил:
— И Будённый, ёб твою мать!
Во время Московской битвы Будённый сказал Сталину, что новых шашек нет, и кавалеристам выдали старые с
надписью "За веру, царя и отечество"
— А немецкие головы они рубят? — спросил Сталин
— Рубят, товарищ Сталин.
— Так дай же Бог этим шашкам за веру, царя и отечество! — сказал Сталин
Заждались...
Через некоторое время этот товарищ появился в дверях
— Садитесь, а то мы вас заждались,— сказал Сталин.
Конструктор артиллерийских систем В.Г. Грабин рассказывал мне, как в канун 1942 года его пригласил Сталин и
сказал:
— Ваша пушка спасла Россию. Вы что хотите — Героя Социалистического Труда или Сталинскую премию?
— Мне все равно, товарищ Сталин
Дали и то, и другое
"Будет нефть..."
Во время войны Сталин поручил Байбакову открытие новых нефтяных месторождений в довольно короткий срок. Когда Байбаков возразил, что это невозможно, Сталин ответил:
— Будет нефть — будет Байбаков, не будет нефти — не будет Байбакова!
Вскоре были открыты новые месторождения в Татарии и Башкирии.
Ванников
Ванникова в войну внезапно освободили из заключения, привезли к Сталину, и тот назначил его наркомом.
Ванников сказал:
— Завтра я явлюсь в наркомат, вчерашний зэк. Какой у меня будет авторитет среди подчиненных?
— О вашем авторитете мы позаботимся,— ответил Сталин.— Нашел время сидеть!
Утром, когда Ванников приехал на работу, на его столе лежала "Правда" с Указом о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда.
Фронтовик Л.Д. Петров, друживший с зятем Молотова, рассказывал мне, как во время войны в Автономную Республику немцев Поволжья наши выбросили десант, переодетый в фашистскую форму. "Своих" встретили как своих — ожидали... Решением Государственного Комитета Обороны все это автономное национальное образование выселили, а десантная часть получила звание гвардейской.
Я не знаю, чтобы переселенные немцы так возмущались своей судьбой, как, скажем, чеченцы или крымские татары. На юбилее Расула Гамзатова в 1993 году я сидел в президиуме рядом с Джохаром Дудаевым и слышал, как он с гордостью сообщил, что во время войны чеченцы поднесли Гитлеру белого коня. А ведь раньше отрицали!
Четыре тарана
Летчик Борис Ковзан — уникальный герой Великой Отечественной войны, который совершил четыре(!)
воздушных тарана и остался живой. Он рассказывал мне, как после вручения Звезды Героя Советского Союза его
пригласил Сталин и подробно обо всем расспросил. Поинтересовался, чем дальше собирается заниматься
Ковзан
— Вернусь в свою часть, буду продолжать воевать, — отвечал изрубленный металлом
летчик-истребитель
— Думаю, вы уже достаточно повоевали, — сказал Сталин.— А вот подучиться бы не мешало, скажем, в
академии
— Я не потяну, товарищ Сталин,— честно признался Ковзан
— А вы дайте мне слово, что будете учиться!
— Обещаю, товарищ Сталин.
— А как у вас дома дела?
—.Только вот родился сын
— Поздравляю! Стране нужны люди. Когда летчик вышел во двор, его ждала машина, и на заднем сиденье он
обнаружил большую коробку, где лежали пеленки, распашонки — все для новорожденного...
Ковзан вернулся в свою часть, его вызвал вышестоящий генерал:
— Что будем делать?
— Служить, —ответил летчик"
— А какое слово вы дали товарищу Сталину?
"Все знает", — подумал Ковзан
Пришлось поступать в академию, где он на вступительных экзаменах не ответил ни на один вопрос, и был принят.
Сомнение
Маршал бронетанковых войск Катуков рассказывал, что однажды в кабинете у Сталина он упомянул фамилию генерала Иванова.
—Это не тот Иванов, который изменил своей нации? — спросил Сталин.
Прежде у Иванова была еврейская фамилия
— Тот самый, — ответил Катуков.
— А русской нации он не изменит?
Что будем делать?
Начальник Генерального штаба Красной Армии А.М. Василевский показал И.В. Сталину целую папку кляуз на
генерала армии И.Д. Черняховского. Речь в них шла о том, что у него много женщин.
— Что будем делать? — спросил Василевский.
— Что будем делать? Что будем делать? — задумался Сталин. — Завидовать будэм!
После войны от сильного цунами на Курильских островах погибло 28 тысяч человек, среди которых было много военных. В одной воинской части остался жив солдат со знаменем. Когда об этом доложили Сталину, он решил представить солдата к званию Героя Советского Союза. С солдатом побеседовало начальство, и он сказал, что во время стихийного бедствия думал о том, как бы уцелеть, а знамя ему только мешало, и он вообще случайно оказался возле него. Сталин, узнав об этом, сказал:
— Как жаль, что у нас нет награды за честность! И велел все-таки поощрить солдата. Маршал А. М. Василевский приказал сшить ему форму из офицерского материала и дать отпуск домой на 30 суток, не считая дороги.
ВЕЧНАЯ СЛАВА
Генерал А.И. Рыжков рассказывал, как в приказе Верховного Главнокомандующего впервые появились слова: "Вечная слава героям, павшим в боях за честь и независимость нашей Родины!"
— Поехали с А.М. Василевским к Сталину. У нас в проекте приказа было: "Вечная память..."
Сталин прочитал и предложил заменить "память" на "славу": "Память отдает церковным",— сказал Сталин
К Сталину обратился патриарх Всея Руси Алексий с просьбой разрешить открыть церковь в Москве.
— Открывайте, — сказал Сталин.— Русским матерям есть за кого помолиться, есть по ком поплакать.
Приободренный патриарх осмелился попросить разрешения открыть и духовные учебные заведения. Сталин разрешил открыть богословские школы, а насчет семинарий сказал: "История знает случаи, когда из духовных семинарий выходили неплохие революционеры! А впрочем, от них мало толку. Вот видите, я учился в семинарии, и ничего путного из этого не вышло".
Мне об этом рассказал бывший начальник югославской гвардии Момо Джурич [Момчило Джурич во время войны - начальник охраны Тито, после войны - политиммигрант в Москве - FV] — ему довелось летать в одном самолете с нашим патриархом и даже пить с ним водку.
Вот еще любопытный эпизод на эту тему
В первую мировую войну был тяжело ранен один врач-хирург. Понимая, что шансов выжить у него почти нет, он дал обет, что если не умрет, то станет служить Богу. И выжил. И сдержал обет, став сельским священником. Во вторую мировую войну он ушел в партизаны и, как наиболее грамотный, стал начальником штаба партизанского отряда, но, поскольку были раненые и больные, пришлось ему вспомнить и свою первую профессию. И многих он спас.
На приеме в Кремле в честь отличившихся партизан он был представлен Сталину, которому рассказали его историю. Сталин поинтересовался, чем он будет заниматься после войны. Тот ответил, что вернется в свой приход. Сталину, видимо, хотелось обратить его к медицинской деятельности, и он сказал: "Эх, какого хирурга мы потеряли в вашем лице!". "А какого пастыря потеряла церковь в вашем лице, Иосиф Виссарионович!" — ответил поп-хирург-партизан.
В Москву из Парижа приехал крупный деятель православной церкви, который в свое время учился вместе со
Сталиным в Тифлисской духовной семинарии. Захотел увидеть своего соученика и, получив приглашение, спросил,
в какой одежде лучше прийти — в церковной или мирской?
— Лучше в мирской, — посоветовали ему. ...Встретились тепло. Потом Сталин тронул штатский костюм
гостя и сказал:
— Бога не боишься, а меня испугался?
Начальник Воениздата генерал Маринов был похож на грузина, черноволосой, кучерявый, с усиками. Во время его доклада Сталин внимательно смотрел на него и потом спросил:
— А кто вы по национальности, товарищ Маринов?
Сказать, что он грузин, вождю народов, к тому же грузину, Маринов не решился, но нашел выход:
— Я грузинский еврей, товарищ Сталин. На что Сталин ответил:
— Товарищ Маринов, я знаю так: или грузин, или еврей.
Ответ Черчиллю
На переговорах шли споры о послевоенных границах, и Черчилль сказал:
— Но Львов никогда не был русским городом!
— А Варшава была, — возразил Сталин
Ответ Гарриману
Гарриман на Потсдамской конференции спросил у Сталина:
— После того, как немцы в 1941 году были в восемнадцати километрах от Москвы, наверно, вам сейчас приятно
делить поверженный Берлин?
— Царь Александр I дошел до Парижа,— ответил Сталин
Бутылка балтийской воды
В результате наступательной операции советские войска вышли к Балтийскому морю, и командующий генерал Баграмян решил порадовать Сталина, послав ему бутылку балтийской воды. Но пока эта бутылка добиралась до Кремля, немцам удалось отбить плацдарм и потеснить наши войска с побережья. Сталин уже знал об этом и, когда ему вручили бутылку, сказал:
— Верните ее товарищ Баграмяну, пусть он ее выльет в Балтийское море?
Помидоры
Во время посещения Всесоюзной сельскохозяйственной выставки Сталин обратил внимание на то, что экспонируемые помидоры подпортились, и, когда садились в машину, напомнил:
— Помидоры не забудьте убрать! Но только помидоры — я больше ничего не говорил.
Великий учитель
Чан Кайши назвал Сталина "великим учителем", на что Сталин заметил:
— Тоже мне, дети!
Рассказы Мгеладзе А.И.
Я вернулся с воинских сборов из Тбилиси. Встречался там с Акакием Ивановичем Мгеладзе, бывшим Первым секретарем ЦК партии Грузии в последние годы жизни Сталина. Пересказываю Молотову.
Акакий Иванович вспоминал, как обедал у Сталина на даче в Боржоми, и тот сказал:
— Давайте пригласим Хрущева. — И позвонил. Хрущев выехал, но что-то долго его не было. Наконец
приезжает и говорит:
— Товарищ Сталин, безобразие, гонят стада овец, перекрыли дорогу! — И обращается к Мгеладзе:
— Ты там распорядись, чтоб этих пастухов наказали!
Но все обошлось, ни один пастух не пострадал.
У Сталина бутылки стояли.
— Я хочу выпить за нашего дорогого товарища Сталина! — воскликнул Хрущев.
Все налили вина, Хрущев подошел к Сталину:
— Товарищ Сталин, я хочу за вас выпить водки, потому что за такого человека нельзя пить какую-то
кислятину! — И жалил себе полный стакан водки. Выпил. Все выпили вина. Короче, он один пил водку и быстро
уснул на диване. Сталин сказал:
— Ну вот, теперь мы можем спокойно поговорить
— М-да,—заметил Молотов
— Хрущев любил выпить? — спрашиваю Вячеслава Михайловича
— В ту пору не выделялся
Мгеладзе рассказывал и о Суслове
Позвонил Сталин: "Приедет лечиться Суслов, обрати на него внимание, он туберкулёзник, прими его получше".
Я хорошо его принял. А он столько говорил о Сталине: "Пойми, ведь только благодаря Сталину мы все так поднялись, только благодаря Сталину всё у нас есть. Я никогда не забуду отеческое внимание Сталина ко мне. Если бы не Сталин, я бы умер от туберкулёза. Сталин меня вытащил, Сталин меня заставляет лечиться и лечит!" Может, он рассчитывал, что Мгеладзе все это передаст Сталину?
Ну, а что говорил Суслов о Сталине в хрущевско-брежневские времена, напечатано в газетах...
Сталин ходил с Первым секретарем ЦК Грузии А. И. Мгеладзе по аллеям кунцевской дачи и угощал его лимонами,
которые вырастил сам в своём лимоннике:
— Попробуйте, здесь, под Москвой, выросли! И так несколько раз, между разговорами на другие темы:
— Попробуйте, хорошие лимоны! Наконец собеседника осенило:
— Товарищ Сталин, я вам обещаю, что через семь лет Грузия обеспечит страну лимонами, и мы не будем ввозить
их из-за границы
— Слава Богу, догадался! — сказал Сталин
Серго Кавтарадзе
Известный грузинский большевик Серго Кавтарадзе долгое время был не у дел. О нём как бы забыли. Занимал с
женой комнату в коммунальной квартире, где сосед постоянно ругал его за невыключенный свет в туалете или
невынесенное ведро с мусором. И вот после войны — телефонный звонок:
— Серго, это ты? Ты живой? Кто говорит? Лаврентий говорит!
— Здравствуйте, Лаврентий Павлович!
— Ой, как не стыдно! Просто Лаврентий... Забыл старых друзей, не звонишь, не заходишь! А мы сидим,
вспоминаем старых друзей, товарищ Сталин спрашивает: "А где наш Серго Кавтарадзе?" Я позвонил к себе
на службу, мне сказали — ты в Москве. Приезжай к нам, я за тобой машину пришлю.
И вскоре Кавтарадзе оказался за одним столом со Сталиным и Берией. Посидели, и Сталин говорит:
— А теперь, Серго, поедем к тебе, посмотрим, как ты живешь
— Товарищ Сталин, уже поздно, и я, если б знал, сказал бы жене, она бы что-то приготовила…
— А мы возьмем бутылочку вина и тихо, скромно поедем, — сказал Сталин
И поехали. В одной машине — охрана, во второй — Берия, в третьей— Сталин и Кавтарадзе, в четвертой — бутылка с охраной...
Кавтарадзе позвонил. Дверь открыл его сосед:
— Мало того, что он свет в туалете не тушит, он еще приходит в три часа ночи!
Сзади, из-за плеча Кавтарадзе, выглядывал человек в шляпе, пенсне и белом кашне. Сосед тут же скрылся. В коридор проникла охрана, перекрыв входы-выходы. Кавтарадзе хотел пойти первым, чтоб разбудить жену, но Берия опередил его. Он приоткрыл дверь в комнату, просунул голову в шляпе, пенсне и кашне и лукаво произнес:
— А кто к вам прие-е-хал!
Сталин побыл недолго. Гости уехали. Наутро у входа в ванную Кавтарадзе сказал задержавшемуся там соседу:
— А мыться надо побыстрее!
— Слушаюсь! — сказал сосед и вытянулся
Вскоре позвонил Молотов и сообщил Кавтарадзе, что он назначен Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Румынии
Оценил Хрущева
Когда Хрущев на заседании Политбюро после войны высказал свои соображения по строительству агрогородов — газ, водопровод и т. д.,— Сталин выслушал, подошел к нему, погладил по лысине и сказал:
— Мой маленький Маркс!
На озере Рица
Бывший комендант Большого театра, а фактически один из охранников Сталина А. Рыбин рассказал мне, как ездили
со Сталиным на озеро Рица. Поехали в полной уверенности, что на даче всё готово к приему вождя. Но, как обычно
у нас, все оказалось не так — даже спать было негде и не на чем. Легли прямо на берегу — в спальных
мешках. Среди ночи Сталин проснулся.
— Ну и храпите же вы! — сказал он охранникам, взял свой спальный мешок и пошел досыпать один
— Уж он и простак был донельзя, этот Сталин! — запомнилась мне дословно фраза А. Рыбина
Иногда Сталин, закатав свои брюки с лампасами, ходил босиком по воде. Я и спросил А. Рыбина, было ли у Сталина на ноге шесть пальцев, о чем прочитал в одном "демократическом" издании в разгар перестройки. Рыбин даже опешил:
— Если б было, мы бы, наверно, сразу обратили внимание...
В поездках Сталина часто сопровождал охранник Туков. Он сидел на переднем сиденье рядом с шофером и имел
обыкновение в пути засыпать. Кто-то из членов Политбюро, ехавший со Сталиным на заднем сиденье, заметил:
— Товарищ Сталин, я не пойму, кто из вас кого охраняет?
— Это что,— ответил Иосиф Виссарионович, — он еще мне свой пистолет в плащ сунул — возьмите,
мол, на всякий случай!
В "Метрополе"
Сталин приехал в ресторан "Метрополь". В фойе было пусто — чекисты постарались. И только
гардеробщик выскочил навстречу:
— Разрешите помочь, Иосиф Виссарионович?
— Пожалуй, это я еще умею делать сам,— сказал Сталин, снимая шинель
Сергей Михалков сидел, все время глядя на Сталина, как бы призывая его обратить внимание. Сталин почувствовал это и сказал Мао Цзэдуну:
— А это писатель Михалков. Его невозможно не заметить! — имея в виду, видимо, и высокий рост Сергея Владимировича
Молотов сидел, как обычно, рядом со Сталиным. Улучив момент, когда Вячеслав Михайлович вышел, Михалков подсел к Сталину. Молотов вернулся и, заметив, что его место занято, отошел в сторону. Но Сталин сказал:
— Товарищ Михалков, на двух стульях трудно сидеть!
Петру Гроза
Премьер-министр Румынии Петру Гроза после банкета сказал Сталину:
— Вы знаете, я очень люблю женщин
— А я очень люблю коммунистов,— ответил Сталин
Единственный, и тот...
Сталин сказал лидеру чехословацких коммунистов и первому президенту Чехословакии Клементу Готвальду:
— Ты во всей своей стране единственный порядочный человек, и тот пьяница!
% точности
Сталин спросил у метеорологов, какой у них процент точности прогнозов
— Сорок процентов, товарищ Сталин
— А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет шестьдесят процентов
Картлинский
Рассказывал поэт Семен Олендер:
— В двадцатые годы я написал стихотворение, в котором обругал и Сталина, и Троцкого,— между ними шла непримиримая борьба. Отнес в "Комсомолку". Стихи попали к Надежде Сергеевне Аллилуевой. Мы не знали, что она жена Сталина, знали — муж работает в ЦК.
Через несколько дней мне позвонил некто, назвавшийся Картлинским, и сказал, что ему непонятна в стихах моя
позиция: ругаю одновременно и Сталина, и Троцкого.
— Они мне оба не нравятся, — ответил я.
— Вы что, хотите стать советским Лермонтовым? Так запомните, что вы не Лермонтов, а товарищ Сталин не
Николай Романов! — И повесил трубку.
Потом я узнал, что Картлинский — один из псевдонимов Сталина. К Дзержинскому меня все-таки вызвали, тем дело и кончилось.
Виновата война
После битвы под Сталинградом Сталин осматривал город, вернее, то, что от него осталось. Неожиданно на перекрестке двух прежних улиц в автомобиль вождя въехал грузовик. За рулем — женщина. Увидела Сталина — в слезы.
— Да вы не плачьте, — стал успокаивать ее Сталин, — моей машине ничего не сделалось, она бронированная. А вы свою поправьте! — И обратился к подбежавшим милиционерам: — Вы ее не трогайте, она не виновата, виновата война.
Был период, тогда Сталин долго работал на даче и никуда не выезжал. Решили покатать его по ночной Москве. Сопровождающему наказали:
— Запоминай все, что товарищ Сталин скажет, где и по какому поводу!
Когда вернулись, начальник спросил сопровождающего:
— Ну, как, что говорил?
— Молчал, всю дорогу молчал.
— А может, все-таки что-нибудь сказал?
— Кажется, одно слово только... "Шпил!"
— Шпил? Где он это сказал?
— Когда проезжали Смоленскую площадь. ...
В это время на Смоленской строили новую "высотку". На следующий день собрали строителей и постановили: вверху никаких украшательств, венчать здание должен строгий шпиль!
Золотая Звезда
После победы в 1945-м, отмечая исключительные заслуги И. В. Сталина в Великой Отечественной войне, Политбюро ЦК
ВКП(б) постановило:
1. Переименовать столицу СССР город Москва в город Сталин
2. Присвоить И. В. Сталину звание Генералиссимуса Советского Союза.
3. Наградить И. В. Сталина вторым Орденом "Победа"
4. Присвоить И. В. Сталину звание Героя Советского Союза.
Сталин категорически отверг эти решения. По первому пункту его поддержал Молотов, и этого было достаточно, чтобы Москва осталась Москвой. Вопрос о Генералиссимусе обсуждался несколько раз, и последний штрих внес Рокоссовский:
— Товарищ Сталин, вы маршал, и я маршал, вы меня наказать не сможете!
Сталин улыбнулся, махнул рукой. А потом не раз жалел, что согласился:
— Я ведь политический деятель, а не военный, зачем мне это звание?
Убедили и с орденом "Победа". А Золотую Звезду так и не принял.
— Я не подхожу под статус Героя Советского Союза, — сказал Сталин. — Я не совершил никакого подвига!
Художники рисовали его с двумя звездами — Героя Социалистического Труда и Героя Советского Союза, но нет ни одной подобной фотографии, потому что Золотая Звезда Иосифа Виссарионовича Сталина до конца его жизни хранилась в Наградном отделе Президиума Верховного Совета, и ее впервые увидели на красной подушечке за гробом...
Ответ школьному учителю
Бывший школьный учитель Сталина прислал ему письмо с просьбой дать ему взаймы от государства пять тысяч рублей на постройку дома. От Сталина пришел пакет, на котором было написано: "Народному учителю". Тогда еще, не было такого звания, но этого учителя стали называть только так.
В письме Сталин ответил, что у нас нет закона, по которому государство могло бы дать взаймы такие деньги. "Обычно я не беру гонораров за свои произведения, а сейчас взял и посылаю Вам три тысячи. Больше у меня нет, к сожалению. Но я позвоню Первому секретарю вашей партии Берии, чтобы он нашел возможность предоставить Вам недостающие две тысячи".
— Не мог сразу ко мне обратиться! — сказал Берия.
Домик построили...
Полк охраны
В октябре 1941 года, когда положение Москвы стало угрожающим, заговорили о переезде Сталина в Куйбышев, где
было оборудовано помещение для Ставки. Но никто не решался спросить у Сталина, когда же он покинет столицу.
Поручили задать вождю этот щекотливый вопрос командиру полка охраны. Тот спросил не напрямую, а так:
— Товарищ Сталин, когда переводить полк? Состав на Куйбышев готов
— Если будет нужно, этот полк я поведу в атаку, — ответил Сталин
Известно, что, когда Сталину через шведский Красный Крест предложили обменять Якова на плененного в Сталинграде фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил: "Солдата на маршала не меняю". Известно также и другое его высказывание: "Нам нужно сейчас взять в плен как можно больше немецких генералов, чтобы их всех обменять на одного человека — Эрнста Тельмана".
В газете "Красная звезда" от 15 августа 1941 года я прочитал такую корреспонденцию с фронта: "Среди наших командиров мне довелось встретить сыновей славных героев гражданской войны. Они не уступают отцам в героизме. На одной батарее, громившей немцев прямой наводкой, я встретил капитана — сына легендарного Чапаева. Он дерется самоотверженно и честно. На этом же участке фронта я видел сына Пархоменко — старшего лейтенанта, который храбростью напомнил мне своего отца. Изумительный пример подлинного героизма и преданности Родине показал в боях под Витебском командир батареи Яков Джугашвили. В ожесточенном бою он до последнего снаряда не оставлял своего боевого поста, уничтожая врага". В газете не сказано, что уже более месяца сын Сталина находился в немецком плену, оставаясь верным присяге. Родине и вождю.
19 ноября 1977 года в ресторане "Арагви" с Евгением Джугашвили отмечали посмертное награждение его отца орденом Отечественной войны первой степени. Один из гостей, генерал КГБ, рассказывал, что после войны арестовали германского разведчика, которому Риббентроп поручил вести работу в лагере с пленным Яковом Джугашвили. Немцам никак не удавалось сделать снимок улыбающегося Якова. К нему подослали эсэсовца-грузина с пачкой любимых папирос Якова. Ожидали, что это произведет желанный эффект, ибо Яков был заядлым курильщиком, как и его отец.
ЪДЕУШ НОЕ ИПФЕМПУШ ВЩ УЛБЪБФШ П ОЕЛПФПТЩИ МЙЮОЩИ ЧРЕЮБФМЕОЙСИ П уФБМЙОЕ Й УФЙМЕ ЕЗП ТБВПФЩ…
уМПЦЙЧЫЕЕУС МЙЮОП Х НЕОС Й, НОЕ ЛБЦЕФУС, ОЕ ФПМШЛП Х НЕОС, НОЕОЙЕ П уФБМЙОЕ Ч РЕТЙПД 1937–1938 ЗПДПЧ ВЩМП СЧОП ОЕ Ч ЕЗП РПМШЪХ. б ЛБЛ НЩ ЪОБЕН, ЙЪНЕОЙФШ ХЛПТЕОЙЧЫЕЕУС Ч ФЕЮЕОЙЕ ТСДБ МЕФ НОЕОЙЕ УМПЦОП. оП Й ОЕ УЮЙФБФШУС У УПВЩФЙСНЙ, ЛПФПТЩЕ РТПИПДСФ РЕТЕД ЧБЫЙНЙ ЗМБЪБНЙ, ОЕ ДБЧБФШ ЙН ПВЯЕЛФЙЧОХА ПГЕОЛХ ЪДТБЧПНЩУМСЭЙК ЮЕМПЧЕЛ ФБЛЦЕ ОЕ НПЦЕФ…
***
пФ уФБМЙОБ ОБДП ВЩМП ЦДБФШ ЪЧПОЛБ Ч МАВПЕ ЧТЕНС УХФПЛ. ъЧПОЙМ, ЛБЛ РТБЧЙМП, ПО УБН ЙМЙ ЕЗП РПНПЭОЙЛ б.о. рПУЛТЈВЩЫЕЧ. ьФПФ РПЙУФЙОЕ ХДЙЧЙФЕМШОЩК ЮЕМПЧЕЛ ВЩМ ЧУЕГЕМП РТЕДБО уФБМЙОХ Й ЧУЕЗДБ ОБИПДЙМУС У ОЙН, ЕИБМ МЙ уФБМЙО ПФДЩИБФШ ЙМЙ ТБВПФБМ. рПУЛТЈВЩЫЕЧ ВЩМ ЕДЙОУФЧЕООЩН, ЛФП ЪОБМ ЧУА РПДОПЗПФОХА МАВПЗП ЧПРТПУБ. уФБМЙО РТЙЧЩЛ Л ОЕНХ Й, ОЕ УФЕУОССУШ, ЧЩУЛБЪЩЧБМ РТЙ ОЕН УЧПЙ НЩУМЙ РП МАВПНХ ЧПРТПУХ Й МАВПНХ ЮЕМПЧЕЛХ, ЪОБС, ЮФП ДБМШЫЕ рПУЛТЈВЩЫЕЧБ ОЙЮЕЗП ОЕ РПКДЕФ. й ДЕКУФЧЙФЕМШОП, бМЕЛУБОДТ оЙЛПМБЕЧЙЮ ВЩМ ПЮЕОШ РТПУФЩН Й ПВЭЙФЕМШОЩН ЮЕМПЧЕЛПН, ОП Ч ФП ЦЕ ЧТЕНС Ч ДЕМБИ ВЩМ ОЕН ЛБЛ ТЩВБ. уРХУФС ЗПДЩ НОПЗП РПМПЦЙМ иТХЭЈЧ ЙЪЧПТПФМЙЧПУФЙ Й ЧУСЛЙИ РТЙЕНПЧ, ДБВЩ ЧЩЧЕДБФШ Х рПУЛТЈВЩЫЕЧБ ЧУЕ П уФБМЙОЕ. лБЛ ЗПЧПТСФ, Й ЛОХФПН, Й РТСОЙЛПН… оП ПФЧЕФ ЧУЕЗДБ ВЩМ ПДЙО: «чЩ ВЩМЙ ЮМЕОПН рПМЙФВАТП, Б С ВЩМ МЙЫШ ЮМЕОПН гл. пФЛХДБ НОЕ ЪОБФШ ВПМШЫЕ ЧБУ? с Ч ЪБУЕДБОЙСИ рПМЙФВАТП ХЮБУФЙС ОЕ РТЙОЙНБМ, Б, ЛБЛ ЧЩ ЪОБЕФЕ, ЧУЕ ЧПРТПУЩ ТЕЫБМЙУШ ФБН». чПФ Й ЧУЕ. фБЛ Й ХНЕТ бМЕЛУБОДТ оЙЛПМБЕЧЙЮ, ХОЕУС У УПВПК Ч НПЗЙМХ ФП, ЮФП ЪОБМ ПВ ЙУФЙООПН МЙГЕ уФБМЙОБ, П ЛПФПТПН ПО НПЗ ВЩ, ЛПОЕЮОП, ТБУУЛБЪБФШ ПЮЕОШ НОПЗП…
еУМЙ уФБМЙО ЪЧПОЙМ УБН, ФП ПВЩЮОП ПО ЪДПТПЧБМУС, УРТБЧМСМУС П ДЕМБИ Й, ЕУМЙ ОХЦОП ВЩМП, ЮФПВЩ ЧЩ МЙЮОП Л ОЕНХ СЧЙМЙУШ, ОЙЛПЗДБ ОЕ ЗПЧПТЙМ: «чЩ НОЕ ОХЦОЩ, РТЙЕЪЦБКФЕ», – ЙМЙ ЮФП-ОЙВХДШ Ч ЬФПН ТПДЕ. пО ЧУЕЗДБ УРТБЫЙЧБМ: «нПЦЕФЕ ЧЩ ЛП НОЕ РТЙЕИБФШ?» – Й, РПМХЮЙЧ ХФЧЕТДЙФЕМШОЩК ПФЧЕФ, ЗПЧПТЙМ: «рПЦБМХКУФБ, РТЙЕЪЦБКФЕ». оП С, ОБРТЙНЕТ, ОЙЛПЗДБ ОЕ ЪОБМ, ЪБЮЕН Й РП ЛБЛПНХ ЧПРТПУХ ЕДХ. еУМЙ ЪЧПОЙМ рПУЛТЈВЩЫЕЧ Й Х ОЕЗП УРТБЫЙЧБМЙ, ЪБЮЕН ЧЩЪЩЧБАФ, ЧУЕЗДБ ВЩМ ПДЙО Й ФПФ ЦЕ ПФЧЕФ: «оЕ ЪОБА». еДЙОУФЧЕООП, ЮФП РПНПЗБМП ПТЙЕОФЙТПЧБФШУС, – ЬФП УРТПУЙФШ Х бМЕЛУБОДТБ оЙЛПМБЕЧЙЮБ: «лФП ЕЭЕ ЕУФШ Х уФБМЙОБ?» фХФ ЧЩ ЧУЕЗДБ РПМХЮБМЙ ФПЮОЩК ПФЧЕФ, ОП ЬФП НБМП РПНПЗБМП. х уФБМЙОБ НПЦОП ВЩМП УФПМЛОХФШУС У МАВЩН ЧПРТПУПН, ЛПОЕЮОП, ЧИПДСЭЙН Ч ЛТХЗ ЧБЫЙИ ПВСЪБООПУФЕК Й ЧБЫЕК ЛПНРЕФЕОГЙЙ, Й ЧЩ ПВСЪБОЩ ВЩМЙ ДБФШ ЙУЮЕТРЩЧБАЭЙК ПФЧЕФ. еУМЙ ЧЩ ПЛБЪБМЙУШ ОЕ ЗПФПЧЩ Л ПФЧЕФХ, ЧБН ДБЧБМЙ ЧТЕНС ХФПЮОЙФШ ОЕПВИПДЙНЩЕ ГЙЖТЩ, ЖБЛФЩ, ДБФЩ, ДЕФБМЙ РП ФЕМЕЖПОХ РТСНП ЙЪ РТЙЕНОПК. еУМЙ ЦЕ ПЛБЪЩЧБМПУШ, ЮФП ЧЩ ЪБФТХДОСЕФЕУШ ПФЧЕФЙФШ РП ПУОПЧОЩН ЧПРТПУБН ЧБЫЕК ДЕСФЕМШОПУФЙ, ЛБУБАЭЙНУС ВПЕЧПК ТБВПФЩ РПДЮЙОЕООЩИ ЧБН ЮБУФЕК Й УПЕДЙОЕОЙК, НБФЕТЙБМШОПК ЮБУФЙ, ЛПНБОДОПЗП УПУФБЧБ Й ФБЛ ДБМЕЕ, ЛПФПТЩЕ ЧЩ ПВСЪБОЩ ЪОБФШ РП ЪБОЙНБЕНПК ДПМЦОПУФЙ, ЧБН РТСНП ЗПЧПТЙМЙ, ЮФП ЧЩ ОЕ ЪБОЙНБЕФЕУШ УЧПЙН ДЕМПН, ОЕ ЪОБЕФЕ ЕЗП, Й ЕУМЙ ФБЛ РПКДЕФ ДБМШЫЕ, ДЕМБФШ ЧБН ОБ ЬФПН РПУФХ ОЕЮЕЗП. фБЛ, ОЕЪОБОЙЕ ПВУФБОПЧЛЙ, ЧПЪНПЦОПУФЕК УЧПЙИ ЧПКУЛ Й РТПФЙЧОЙЛБ РПЛБЪБМ нБТЫБМ уПЧЕФУЛПЗП уПАЪБ з.й. лХМЙЛ, ТБЪЦБМПЧБООЩК Ч 1942 ЗПДХ ДП ЪЧБОЙС ЗЕОЕТБМ-НБКПТБ.
лПОФТПМШ ЪБ ЙУРПМОЕОЙЕН ДБЧБЕНЩИ РПТХЮЕОЙК ВЩМ БВУПМАФЕО. лБЦДЩК ЪОБМ, ЮФП ЕЗП ПВСЪБФЕМШОП УРТПУСФ, Й ОЕ ТБЪ, П ФПН, ЛБЛ ЧЩРПМОСЕФУС РПМХЮЕООПЕ ЪБДБОЙЕ. чЩРПМОЕОЙЕ ТБЪМЙЮОЩИ РПУФБОПЧМЕОЙК Й ТЕЫЕОЙК ОБЮЙОБМЙ ОЕНЕДМЕООП, ОЕ ПЦЙДБС ЙИ ПЖПТНМЕОЙС. дПТПЦЙМЙ ЛБЦДЩН ЮБУПН, ЪОБС, ЮФП ОЙЛБЛЙИ УЛЙДПЛ ОБ ЧУСЛЙЕ ФБН ПВУФПСФЕМШУФЧБ ОЕ ВХДЕФ. чУЕ ЧПРТПУЩ ПВУХЦДБМЙУШ РТЕДЧБТЙФЕМШОП, ЙУРПМОЙФЕМШ, ЛБЛ РТБЧЙМП, РТЙУХФУФЧПЧБМ ЪДЕУШ ЦЕ.
оБ НПК ЧЪЗМСД, ИБТБЛФЕТОПК ЮЕТФПК уФБМЙОБ ВЩМБ ЕЗП РПТБЪЙФЕМШОБС ФТЕВПЧБФЕМШОПУФШ Л УЕВЕ Й Л ДТХЗЙН. тБДХСУШ ФПНХ ЙМЙ ЙОПНХ ХУРЕИХ, ОБЪБЧФТБ ПО ТБУУНБФТЙЧБМ ЬФПФ ХУРЕИ ХЦЕ ЛБЛ ОЕЮФП УБНП УПВПК ТБЪХНЕАЭЕЕУС, Б РПУМЕЪБЧФТБ «ЧЙОПЧОЙЛБ» ХУРЕИБ УРТБЫЙЧБМ, ЮФП ФПФ ДХНБЕФ ДЕМБФШ ДБМШЫЕ. фБЛЙН ПВТБЪПН, РПЮЙЧБФШ ОБ МБЧТБИ МАВПНХ, ДБЦЕ ЧЕУШНБ БЧФПТЙФЕФОПНХ ФПЧБТЙЭХ, ОЕ ХДБЧБМПУШ. уФБМЙО, ЧПЪДБЧ ДПМЦОПЕ ЮЕМПЧЕЛХ, ЛПФПТЩК УПЧЕТЫЙМ ЮФП-ФП ЧБЦОПЕ, РПДФБМЛЙЧБМ ЕЗП ДЕМБФШ ДБМШОЕКЫЙЕ ЫБЗЙ. ьФБ ИБТБЛФЕТОБС ЮЕТФБ ОЕ РПЪЧПМСМБ МАДСН УБНПХУРПЛБЙЧБФШУС Й ФПРФБФШУС ОБ НЕУФЕ. лБЦДЩК ФБЛЦЕ ЪОБМ, ЮФП ПФЧЕФЙФ УРПМОБ, ОЕУНПФТС ОЙ ОБ ЛБЛЙЕ ЪБУМХЗЙ, ЕУМЙ ПО НПЗ ЮФП-МЙВП УДЕМБФШ, ОП ОЕ УДЕМБМ. чУСЮЕУЛЙЕ ПФЗПЧПТЛЙ, ЛПФПТЩЕ Х ОБУ, Л УПЦБМЕОЙА, ЧУЕЗДБ ОБИПДСФУС, ДМС уФБМЙОБ ОЕ ЙНЕМЙ ОЙЛБЛПЗП ЪОБЮЕОЙС. еУМЙ ЦЕ ЮЕМПЧЕЛ Ч ЮЕН-ФП ПЫЙВУС, ОП РТЙЫЕМ Й УБН УЛБЪБМ РТСНП ПВП ЧУЕН, ЛБЛ ВЩ ФСЦЕМЩ ОЙ ВЩМЙ РПУМЕДУФЧЙС ПЫЙВЛЙ, ОЙЛПЗДБ ЪБ ЬФЙН ОЕ УМЕДПЧБМП ОБЛБЪБОЙЕ. оП ЗПТЕ ВЩМП ФПНХ, ЛФП ВТБМУС ЮФП-ФП УДЕМБФШ Й ОЕ ДЕМБМ, Б РХУЛБМУС ЧП ЧУСЛПЗП ТПДБ ПВЯСУОЕОЙС. фБЛПК ЮЕМПЧЕЛ УТБЪХ МЙЫБМУС УЧПЕЗП РПУФБ. вПМФХОПЧ уФБМЙО ОЕ ФЕТРЕМ. оЕ ТБЪ УМЩЫБМ С ПФ ОЕЗП, ЮФП ЮЕМПЧЕЛ, ЛПФПТЩК ОЕ ДЕТЦЙФ УЧПЕЗП УМПЧБ, ОЕ ЙНЕЕФ МЙГБ. п ФБЛЙИ МАДСИ ПО ЗПЧПТЙМ У РТЕЪТЕОЙЕН. й ОБПВПТПФ, ИПЪСЕЧБ УЧПЕЗП УМПЧБ РПМШЪПЧБМЙУШ ЕЗП ХЧБЦЕОЙЕН. пО ЪБВПФЙМУС П ОЙИ, ЪБВПФЙМУС ПВ ЙИ УЕНШСИ, ИПФС ОЙЛПЗДБ ПВ ЬФПН ОЕ ЗПЧПТЙМ Й ЬФПЗП ОЕ РПДЮЕТЛЙЧБМ. пО НПЗ ТБВПФБФШ ЛТХЗМЩЕ УХФЛЙ Й ФТЕВПЧБМ ТБВПФЩ Й ПФ ДТХЗЙИ. лФП ЧЩДЕТЦЙЧБМ, ФПФ ТБВПФБМ. лФП ОЕ ЧЩДЕТЦЙЧБМ – ХИПДЙМ.
тБВПФПУРПУПВОПУФШ уФБМЙОБ ЧП ЧТЕНС ЧПКОЩ ВЩМБ ЖЕОПНЕОБМШОБС, Б ЧЕДШ ПО ХЦЕ ВЩМ ОЕНПМПДЩН ЮЕМПЧЕЛПН, ЕНХ ВЩМП ЪБ ЫЕУФШДЕУСФ. рБНСФШ Х ОЕЗП ВЩМБ ТЕДЛПУФОБС, РПЪОБОЙС Ч МАВПК ПВМБУФЙ, У ЛПФПТПК ПО УПРТЙЛБУБМУС, ХДЙЧЙФЕМШОЩ. с, МЕФЮЙЛ, ЧП ЧТЕНС ЧПКОЩ УЮЙФБМ УЕВС ЧРПМОЕ ЗТБНПФОЩН ЮЕМПЧЕЛПН ЧП ЧУЕН, ЮФП ЛБУБМПУШ БЧЙБГЙЙ, Й ДПМЦЕО УЛБЪБФШ, ЮФП, ТБЪЗПЧБТЙЧБС УП уФБМЙОЩН РП УРЕГЙБМШОЩН БЧЙБГЙПООЩН ЧПРТПУБН, ЛБЦДЩК ТБЪ ЧЙДЕМ РЕТЕД УПВПК УПВЕУЕДОЙЛБ, ЛПФПТЩК ИПТПЫП ТБЪВЙТБМУС Ч ОЙИ, ОЕ ИХЦЕ НЕОС. фБЛПЕ ЦЕ ЮХЧУФЧП ЙУРЩФЩЧБМЙ Й ДТХЗЙЕ ФПЧБТЙЭЙ, У ЛПФПТЩНЙ РТЙИПДЙМПУШ ВЕУЕДПЧБФШ ОБ ЬФХ ФЕНХ, – БТФЙММЕТЙУФЩ, ФБОЛЙУФЩ, ТБВПФОЙЛЙ РТПНЩЫМЕООПУФЙ, ЛПОУФТХЛФПТЩ. фБЛ, ОБРТЙНЕТ, о.о. чПТПОПЧ, ЧРПУМЕДУФЧЙЙ зМБЧОЩК НБТЫБМ БТФЙММЕТЙЙ, СЧМСМУС Л уФБМЙОХ У ЪБРЙУОПК ЛОЙЦЛПК, Ч ЛПФПТХА ВЩМЙ ЪБОЕУЕОЩ ЧУЕ ПУОПЧОЩЕ ДБООЩЕ П ЛПМЙЮЕУФЧЕ ЮБУФЕК Й УПЕДЙОЕОЙК, ФЙРБИ БТФЙММЕТЙКУЛЙИ УЙУФЕН, УОБТСДПЧ Й Ф.Д. дПЛМБДЩЧБС, ПО РТЕДЧБТЙФЕМШОП ЪБЗМСДЩЧБМ Ч ЬФХ ЛОЙЦЛХ, ПДОБЛП ОЕ ТБЪ ВЩЧБМЙ УМХЮБЙ, ЛПЗДБ чЕТИПЧОЩК зМБЧОПЛПНБОДХАЭЙК, ЪОБС ЧУЕ ЬФЙ ДБООЩЕ ОБ РБНСФШ, РПРТБЧМСМ ЕЗП, Й оЙЛПМБА оЙЛПМБЕЧЙЮХ РТЙИПДЙМПУШ ЙЪЧЙОСФШУС. пДОБЦДЩ з.л. цХЛПЧ, ВХДХЮЙ ЛПНБОДХАЭЙН ъБРБДОЩН ЖТПОФПН, РТЙЕИБМ У ДПЛМБДПН Ч уФБЧЛХ. вЩМЙ ТБЪМПЦЕОЩ ЛБТФЩ, ОБЮБМУС ДПЛМБД. уФБМЙО, ЛБЛ РТБЧЙМП, ОЙЛПЗДБ ОЕ РТЕТЩЧБМ ЗПЧПТСЭЕЗП, ДБЧБМ ЕНХ ЧПЪНПЦОПУФШ ЧЩУЛБЪБФШУС. рПФПН ЧЩУМХЫЙЧБМ НОЕОЙС ЙМЙ ЪБНЕЮБОЙС РТЙУХФУФЧХАЭЙИ. пВЩЮОП Ч ЬФП ЧТЕНС ПО ЧУЕЗДБ ОЕФПТПРМЙЧП ИПДЙМ Й ЛХТЙМ ФТХВЛХ. уФБМЙО ЧОЙНБФЕМШОП ТБУУНБФТЙЧБМ ЛБТФЩ, Б РП ПЛПОЮБОЙЙ ДПЛМБДБ цХЛПЧБ ХЛБЪБМ РБМШГЕН НЕУФП ОБ ЛБТФЕ Й УРТПУЙМ:
– б ЬФП ЮФП ФБЛПЕ?!
зЕПТЗЙК лПОУФБОФЙОПЧЙЮ ОБЗОХМУС ОБД ЛБТФПК Й, УМЕЗЛБ РПЛТБУОЕЧ, ПФЧЕФЙМ:
– пЖЙГЕТ, ОБОПУЙЧЫЙК ПВУФБОПЧЛХ, ОЕФПЮОП ОБОЕУ ЪДЕУШ МЙОЙА ПВПТПОЩ. пОБ РТПИПДЙФ ФХФ. – й РПЛБЪБМ ФПЮОПЕ ТБУРПМПЦЕОЙЕ РЕТЕДОЕЗП ЛТБС (ОБ ЛБТФЕ МЙОЙС ПВПТПОЩ, ОБОЕУЕООБС, ЧЙДЙНП, Ч УРЕЫЛЕ, ЮБУФЙЮОП РТПИПДЙМБ РП ВПМПФХ).
– цЕМБФЕМШОП, ЮФПВЩ УАДБ РТЙЕЪЦБМЙ У ФПЮОЩНЙ ДБООЩНЙ, – ЪБНЕФЙМ уФБМЙО.
с, ЮЕУФОП ЗПЧПТС, ОЕ ЪБЧЙДПЧБМ ФПНХ ПЖЙГЕТХ, ЛПФПТЩК ОБОПУЙМ ПВУФБОПЧЛХ ОБ ЛБТФХ. ъБ ЕЗП ОЕЧОЙНБФЕМШОХА ТБВПФХ РПМХЮЙМ ЪБНЕЮБОЙЕ ЛПНБОДХАЭЙК ЖТПОФПН, ЛПФПТЩК МХЮЫЕ МАВПЗП ЪОБМ ДЕМБ Й ПВУФБОПЧЛХ Х УЕВС ОБ РЕТЕДОЕН ЛТБЕ Й ЛПФПТПНХ РТЙЫМПУШ ЛТБУОЕФШ ЪБ ТБВПФОЙЛПЧ УЧПЕЗП ЫФБВБ. х уФБМЙОБ ВЩМБ ЛБЛБС-ФП ХДЙЧЙФЕМШОБС УРПУПВОПУФШ ОБИПДЙФШ УМБВЩЕ НЕУФБ Ч МАВПН ДЕМЕ.
с ЧЙДЕМ уФБМЙОБ Й ПВЭБМУС У ОЙН ОЕ ПДЙО ДЕОШ Й ОЕ ПДЙО ЗПД Й ДПМЦЕО УЛБЪБФШ, ЮФП ЧУЕ Ч ЕЗП РПЧЕДЕОЙЙ ВЩМП ЕУФЕУФЧЕООП. йОПК ТБЪ С УРПТЙМ У ОЙН, ДПЛБЪЩЧБС УЧПЕ, Б УРХУФС ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС, РХУФШ ЮЕТЕЪ ЗПД, ЮЕТЕЪ ДЧБ, ХВЕЦДБМУС: ДБ, ПО ФПЗДБ ВЩМ РТБЧ, Б ОЕ С. уФБМЙО ДБЧБМ НОЕ ЧПЪНПЦОПУФШ УБНПНХ ХВЕДЙФШУС Ч ПЫЙВПЮОПУФЙ УЧПЙИ ЪБЛМАЮЕОЙК, Й С ВЩ УЛБЪБМ, ЮФП ФБЛПК НЕФПД РЕДБЗПЗЙЛЙ ВЩМ ЧЕУШНБ ЬЖЖЕЛФЙЧЕО.
лБЛ-ФП УЗПТСЮБ С УЛБЪБМ ЕНХ:
– юФП ЧЩ ПФ НЕОС ИПФЙФЕ? с РТПУФПК МЕФЮЙЛ.
– б С РТПУФПК ВБЛЙОУЛЙК РТПРБЗБОДЙУФ, – ПФЧЕФЙМ ПО. й ДПВБЧЙМ: – ьФП ЧЩ ФПМШЛП УП НОПК НПЦЕФЕ ФБЛ ТБЪЗПЧБТЙЧБФШ. вПМШЫЕ ЧЩ ОЙ У ЛЕН ФБЛ ОЕ РПЗПЧПТЙФЕ.
фПЗДБ С ОЕ ПВТБФЙМ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ЬФП ДПВБЧМЕОЙЕ Л ТЕРМЙЛЕ Й ПГЕОЙМ ЕЕ РП ДПУФПЙОУФЧХ ЗПТБЪДП РПЪЦЕ.
уМПЧП чЕТИПЧОПЗП зМБЧОПЛПНБОДХАЭЕЗП ВЩМП ОЕТХЫЙНП. пВУХДЙЧ У ОЙН ФПФ ЙМЙ ЙОПК ЧПРТПУ, ЧЩ УНЕМП ЧЩРПМОСМЙ РПТХЮЕООПЕ ДЕМП. оЙЛПНХ Й Ч ЗПМПЧХ ОЕ НПЗМП РТЙКФЙ, ЮФП ЕНХ РПФПН УЛБЦХФ: НПМ, ФЩ ОЕ ФБЛ РПОСМ. б ТЕЫБМЙУШ, ЛБЛ ЙЪЧЕУФОП, ЧПРТПУЩ ПЗТПНОПК ЧБЦОПУФЙ. уМПЧЕУОП ЦЕ, ФП ЕУФШ Ч ХУФОПК ЖПТНЕ, ПФДБЧБМЙУШ ТБУРПТСЦЕОЙС П ВПЕЧЩИ ЧЩМЕФБИ, ПВЯЕЛФБИ ВПНВПНЕФБОЙС, ВПЕЧЩИ РПТСДЛБИ Й ФБЛ ДБМЕЕ, ЛПФПТЩЕ РПФПН ПЖПТНМСМЙУШ ВПЕЧЩНЙ РТЙЛБЪБНЙ. й С ОЕ РПНОА УМХЮБС, ЮФПВЩ ЛФП-ФП ЮФП-ФП РЕТЕРХФБМ ЙМЙ ЧЩРПМОЙМ ОЕ ФБЛ, ЛБЛ ОХЦОП. пФЧЕФУФЧЕООПУФШ ЪБ РПТХЮБЕНПЕ ДЕМП ВЩМБ УФПМШ ЧЩУПЛБ, ЮФП ЮЕФЛПУФШ Й ФПЮОПУФШ ЙУРПМОЕОЙС ВЩМЙ ПВЕУРЕЮЕОЩ.
с ЧЙДЕМ ФПЮОПУФШ уФБМЙОБ ДБЦЕ Ч НЕМПЮБИ. еУМЙ ЧЩ РПУФБЧЙМЙ РЕТЕД ОЙН ФЕ ЙМЙ ЙОЩЕ ЧПРТПУЩ, Й ПО УЛБЪБМ, ЮФП РПДХНБЕФ Й РПЪЧПОЙФ ЧБН, НПЦЕФЕ ОЕ УПНОЕЧБФШУС: РТПКДЕФ ЮБУ, ДЕОШ, ОЕДЕМС, ОП ЪЧПОПЛ РПУМЕДХЕФ Й ЧЩ РПМХЮЙФЕ ПФЧЕФ. лПОЕЮОП, ОЕ ПВСЪБФЕМШОП РПМПЦЙФЕМШОЩК.
лБЛ-ФП ОБ РЕТЧЩИ РПТБИ, ЕЭЕ ОЕ ЪОБС УФЙМС ТБВПФЩ уФБМЙОБ, С ОБРПНОЙМ ЕНХ П ОЕПВИПДЙНПУФЙ ТБУУНПФТЕФШ ЧПРТПУ П ГЕМЕУППВТБЪОПУФЙ РТЙНЕОЕОЙС ДЙЪЕМЕК ДМС ДБМШОЙИ РПМЕФПЧ. ч ФП ЧТЕНС У БЧЙБГЙПООЩН ВЕОЪЙОПН ВЩМП ФХЗП, Б ДЙЪЕМЙ, ЛБЛ ЙЪЧЕУФОП, НПЗХФ ТБВПФБФШ ОБ ЛЕТПУЙОЕ. тЕЪХМШФБФЩ ЦЕ РТЙНЕОЕОЙС ДЙЪЕМЕК ВЩМЙ УБНЩЕ РТПФЙЧПТЕЮЙЧЩЕ: ПДОЙ УБНПМЕФЩ МЕФБМЙ ПФМЙЮОП, ДТХЗЙЕ ЧПЪЧТБЭБМЙУШ, ОЕ ЧЩРПМОЙЧ ВПЕЧПЗП ЪБДБОЙС ЙЪ-ЪБ ПФЛБЪБ ДЧЙЗБФЕМЕК. б Х ОБУ ЛТПНЕ УБНПМЕФПЧ рЕ-8 (фв-7) ОБ ДЙЪЕМСИ ТБВПФБМП Й НОПЗП ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛПЧ ет-2 У ИПТПЫЙНЙ ФБЛФЙЮЕУЛЙНЙ ДБООЩНЙ. вТПУБФШУС ЙНЙ ВЩМП ОЕМШЪС.
– чЩ НОЕ ПВ ЬФПН ХЦЕ ЗПЧПТЙМЙ, – ОЕУЛПМШЛП ХДЙЧМЕООП ПФЧЕФЙМ уФБМЙО, – Й С ПВЕЭБМ ЧБН ЬФПФ ЧПРТПУ ТБУУНПФТЕФШ. йНЕКФЕ ФЕТРЕОЙЕ. еУФШ ВПМЕЕ ЧБЦОЩЕ ДЕМБ.
рТПЫМП ДПЧПМШОП НОПЗП ЧТЕНЕОЙ, Й С УПВТБМУС ВЩМП ЕЭЕ ТБЪ ОБРПНОЙФШ, ОП РТЙ ПЮЕТЕДОПН ТБЪЗПЧПТЕ РП ФЕМЕЖПОХ уФБМЙО УЛБЪБМ:
– рТЙЕЪЦБКФЕ, ДПЫМБ ПЮЕТЕДШ Й ДП ЧБЫЙИ ДЙЪЕМЕК.
фБЛ, ТЕЫБС У ОЙН УБНЩЕ ТБЪОЩЕ ЧПРТПУЩ бЧЙБГЙЙ ДБМШОЕЗП ДЕКУФЧЙС, ЙЗТБЧЫЕК ЧУЕ ВПМШЫХА Й ВПМШЫХА ТПМШ Ч ЧПКОЕ У ЗЕТНБОУЛЙН ЖБЫЙЪНПН, Й РТЙУХФУФЧХС РТЙ ТЕЫЕОЙЙ НОПЗЙИ ДТХЗЙИ ЧПРТПУПЧ, С ЧУЕ МХЮЫЕ ХЪОБЧБМ ЕЗП. оБРТЙНЕТ, С ДПЧПМШОП УЛПТП ХЧЙДЕМ, ЮФП уФБМЙО ОЕ МАВЙФ НОПЗПУМПЧЙС, ФТЕВХЕФ ЛТБФЛПЗП ЙЪМПЦЕОЙС УБНПК УХФЙ ДЕМБ. дМЙООЩИ ТЕЮЕК ПО ФЕТРЕФШ ОЕ НПЗ Й УБН ФБЛЙИ ТЕЮЕК ОЙЛПЗДБ ОЕ РТПЙЪОПУЙМ. еЗП ЪБНЕЮБОЙС ЙМЙ ЧЩУЛБЪЩЧБОЙС ВЩМЙ РТЕДЕМШОП ЛТБФЛЙ, БВУПМАФОП СУОЩ. вХНБЗЙ ПО ЮЙФБМ У ЛБТБОДБЫПН Ч ТХЛБИ, ЙУРТБЧМСМ ПТЖПЗТБЖЙЮЕУЛЙЕ ПЫЙВЛЙ, УФБЧЙМ ЪОБЛЙ РТЕРЙОБОЙС, Б ВХНБЗЙ «ПУПВП ЧЩДБАЭЙЕУС» ПФРТБЧМСМ ОБЪБД, БЧФПТХ. нЩ ЛБЦДЩК ДЕОШ РТЕДУФБЧМСМЙ Ч уФБЧЛХ ВПЕЧЩЕ ДПОЕУЕОЙС П ОБЫЕК ДЕСФЕМШОПУФЙ Й, РТЕЦДЕ ЮЕН РПДРЙУЩЧБФШ ЙИ, РП ОЕУЛПМШЛХ ТБЪ ЮЙФБМЙ, Б УМПЧБТШ хЫБЛПЧБ ВЩМ Х ОБУ ОБУФПМШОПК ЛОЙЗПК.
***
дБЦЕ Ч УБНПЕ ФСЦЕМПЕ ЧТЕНС ЧПКОЩ уФБМЙО МАВЙМ ЧП ЧУЕН РПТСДПЛ Й ФТЕВПЧБМ ЕЗП ПФ ДТХЗЙИ…
еУМЙ ЧЩ ПВТБФЙФЕ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ДПЛХНЕОФЩ, ЛПФПТЩЕ РПДРЙУЩЧБМЙУШ Ч ФП ЧТЕНС, ХЧЙДЙФЕ, ЮФП уФБМЙО, ИПФС Й СЧМСМУС ЗМБЧПК РТБЧЙФЕМШУФЧБ Й зЕОЕТБМШОЩН УЕЛТЕФБТЕН ОБЫЕК РБТФЙЙ, Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ УПДЕТЦБОЙС ДПЛХНЕОФБ УЛТПНОП ДПЧПМШУФЧПЧБМУС ЙОПЗДБ Й ФТЕФШЙН НЕУФПН, УФБЧС УЧПА РПДРЙУШ РПД ОЙН.
уМПЧП «С» Ч ДЕМПЧПН МЕЛУЙЛПОЕ уФБМЙОБ ПФУХФУФЧПЧБМП. ьФЙН УМПЧПН ПО РПМШЪПЧБМУС МЙЫШ ТБУУЛБЪЩЧБС МЙЮОП П УЕВЕ. фБЛЙИ ЧЩТБЦЕОЙК, ЛБЛ «С ДБМ ХЛБЪБОЙЕ», «С ТЕЫЙМ» Й ФПНХ РПДПВОПЕ, ЧППВЭЕ ОЕ УХЭЕУФЧПЧБМП, ИПФС ЧУЕ НЩ ЪОБЕН, ЛБЛПК ЧЕУ ЙНЕМ уФБМЙО Й ЮФП ЙНЕООП ПО, Б ОЕ ЛФП ДТХЗПК, Ч ФЕ ЧТЕНЕОБ НПЗ ЙЪЯСУОСФШУС ПФ РЕТЧПЗП МЙГБ. чЕЪДЕ Й ЧУЕЗДБ Х ОЕЗП ВЩМЙ «НЩ».
нОЕ ЪБРПНОЙМБУШ ИБТБЛФЕТОБС ПУПВЕООПУФШ Ч ПВТБЭЕОЙСИ Л чЕТИПЧОПНХ зМБЧОПЛПНБОДХАЭЕНХ. с ОЙ ТБЪХ ОЕ УМЩЫБМ, ЮФПВЩ ЛФП-ОЙВХДШ ПВТБЭБМУС Л ОЕНХ, ОБЪЩЧБС ЕЗП ЧПЙОУЛПЕ ЪЧБОЙЕ ЙМЙ ДПМЦОПУФШ. пВТБЭБСУШ, ЧУЕ ЗПЧПТЙМЙ: «фПЧБТЙЭ уФБМЙО». ьФЙ УМПЧБ ЧУЕЗДБ РТПЙЪОПУЙМЙУШ Й Ч ПФЧЕФБИ ОБ ЕЗП ЧПРТПУЩ. пФЧЕЮБЧЫЙЕ ЗПЧПТЙМЙ: «дБ, ФПЧБТЙЭ уФБМЙО», «нПЗХ, ФПЧБТЙЭ уФБМЙО» ЙМЙ «оЕФ, ФПЧБТЙЭ уФБМЙО» Й Ф.Р. дХНБЕФУС, ЮФП ФБЛБС ЖПТНБ ПВТБЭЕОЙС Ч ФП ЧТЕНС ВЩМБ ВПМЕЕ РТЙЕНМЕНПК ДМС УБНПЗП уФБМЙОБ. й МЙГБ, ЮБУФП УПРТЙЛБУБЧЫЙЕУС У ОЙН, ОЕ НПЗМЙ ОЕ ХЮЙФЩЧБФШ ЬФПЗП. нОЕ РТЙЫМПУШ УМЩЫБФШ, ЛБЛ ПДЙО ЙЪ РТЙУХФУФЧХАЭЙИ ОБЪЩЧБМ чЕТИПЧОПЗП зМБЧОПЛПНБОДХАЭЕЗП РП ЙНЕОЙ Й ПФЮЕУФЧХ, РПДЮЕТЛЙЧБС ФЕН УБНЩН УЧПЕ УФТЕНМЕОЙЕ ВЩФШ ВПМЕЕ ВМЙЪЛЙН Л ОЕНХ, ОЕЦЕМЙ ДТХЗЙЕ. уФБМЙО ОЙЮЕЗП, ЛПОЕЮОП, ОЕ УЛБЪБМ РП ЬФПНХ РПЧПДХ, ОП УЧПЕ СЧОПЕ ОЕДПЧПМШУФЧП ЧЕУШНБ ХВЕДЙФЕМШОП ЧЩТБЪЙМ ЦЕУФПН Й НЙНЙЛПК. дПЛХНЕОФЩ, РЙУШНБ Й ДТХЗЙЕ ДЕМПЧЩЕ ВХНБЗЙ, ОБРТБЧМСЧЫЙЕУС ЕНХ, ЛБЛ РТБЧЙМП, ЙНЕМЙ ЛПТПФЛЙК БДТЕУ: «гл члр(В). фПЧБТЙЭХ уФБМЙОХ».
чЕТИПЧОЩК зМБЧОПЛПНБОДХАЭЙК ОЕ МАВЙМ, ЮФПВЩ ТБЪЗПЧПТЩ У ОЙН ЧЩИПДЙМЙ ЪБ РТЕДЕМЩ ЕЗП ДЧЕТЕК. оБРПМЕПО ЗПЧПТЙМ, ЮФП УЕЛТЕФ ЕУФШ УЕЛТЕФ, РПЛБ ЕЗП ЪОБЕФ ПДЙО ЮЕМПЧЕЛ. х уФБМЙОБ НПЗМЙ ЪОБФШ УЕЛТЕФ Й ДЧБ, Й ФТЙ ЮЕМПЧЕЛБ: ПО Й ФЕ, У ЛЕН ЫМБ ВЕУЕДБ. оП ЕУМЙ ПО, РПЗПЧПТЙЧ У ЛЕН-ОЙВХДШ ЙЪ ФПЧБТЙЭЕК, РТЕДХРТЕЦДБМ: «пВ ЬФПН ЪОБЕФЕ ЧЩ Й С», – ФП НПЦЕФЕ ВЩФШ ХЧЕТЕОЩ: ОЙ ПДЙО ЮЕМПЧЕЛ ОЕ ТЕЫБМУС УЛБЪБФШ ЛПНХ-МЙВП П УПУФПСЧЫЕНУС ТБЪЗПЧПТЕ, Й УЕЛТЕФ ПУФБЧБМУС УЕЛТЕФПН. рП ЛТБКОЕК НЕТЕ НОЕ ОЕ ЙЪЧЕУФОЩ ФБЛЙЕ МАДЙ, ЛПФПТЩЕ ВЩ ДЕМБМЙ ФТЕФШЕ МЙГП ПВМБДБФЕМЕН ЬФПЗП УЕЛТЕФБ.
л МАДСН, ЛПФПТЩЕ ТБВПФБМЙ У ОЙН, уФБМЙО ВЩМ ПЮЕОШ ЧОЙНБФЕМЕО, ПО УЮЙФБМУС У ФЕН, ЮФП ОБ ЧПКОЕ НПЦЕФ ВЩФШ ЧУСЛПЕ.
йЪЧЕУФОП, ЮФП й.у. лПОЕЧ ЧУМЕДУФЧЙЕ ОЕХДБЮ ОБ ЖТПОФЕ (ТЕЮШ ЙДЕФ П УПТПЛ РЕТЧПН Й УПТПЛ ЧФПТПН ЗПДБИ) ДЧБЦДЩ ПЛБЪЩЧБМУС РПД ХЗТПЪПК УХДБ Й УХТПЧПЗП РТЙЗПЧПТБ. й ПВБ ТБЪБ уФБМЙО ВТБМ ЕЗП РПД ЪБЭЙФХ, ЧЙДС, ЮФП ОБ ЧПКОЕ ЙОПЗДБ УЛМБДЩЧБЕФУС ФБЛБС ПВУФБОПЧЛБ, ЛПЗДБ ПДЙО ЮЕМПЧЕЛ, ВХДШ ПО ДБЦЕ УЕНЙ РСДЕК ЧП МВХ, МЙЮОП УДЕМБФШ ОЙЮЕЗП ОЕ НПЦЕФ. оБДП УЛБЪБФШ, ЮФП йЧБО уФЕРБОПЧЙЮ лПОЕЧ РПЛБЪБМ УЕВС ХДЙЧЙФЕМШОП ИТБВТЩН ЮЕМПЧЕЛПН. фБЛ, ЛПНБОДХС лБМЙОЙОУЛЙН ЖТПОФПН Й РПМХЮЙЧ ДПОЕУЕОЙЕ, ЮФП ПДОБ ЙЪ ТПФ ПУФБЧЙМБ УЧПЙ РПЪЙГЙЙ Й ПФПЫМБ, ПО РПЕИБМ ФХДБ, МЙЮОП ТХЛПЧПДЙМ ВПЕН Й ЧПУУФБОПЧЙМ РТЕЦОЕЕ РПМПЦЕОЙЕ. рТБЧДБ, С ВЩМ УЧЙДЕФЕМЕН, ЛБЛ чЕТИПЧОЩК ТХЗБМ ЕЗП ЪБ ФБЛЙЕ РПУФХРЛЙ, ЧЩЗПЧБТЙЧБС ЕНХ, ЮФП ОЕ ДЕМП ЛПНБОДХАЭЕЗП ЖТПОФПН МЙЮОП ЪБОЙНБФШУС ЧПРТПУБНЙ, ЛПФПТЩЕ ДПМЦОЩ ТЕЫБФШ, Ч МХЮЫЕН УМХЮБЕ, ЛПНБОДЙТЩ РПМЛПЧ. оП ИТБВТЩИ МАДЕК уФБМЙО ПЮЕОШ ХЧБЦБМ Й ГЕОЙМ.
оБДП УЛБЪБФШ, Ч ЛПНБОДПЧБОЙЙ РТСНП ОЕ ЧЕЪМП (ЕУМЙ ЬФП ЧЩТБЦЕОЙЕ ДПУФБФПЮОП ДМС ПРТЕДЕМЕОЙС УХФЙ ДЕМБ) ЗЕОЕТБМХ б.й. еТЈНЕОЛП. оЕ ТБЪ ЕЗП РЕТЕВТБУЩЧБМЙ У НЕУФБ ОБ НЕУФП У ПДЙОБЛПЧЩН ТЕЪХМШФБФПН, Й МЙЫШ Ч 1944 ЗПДХ, ЛПЗДБ ЙЪНЕОЙМПУШ РПМПЦЕОЙЕ ОБ ЧУЕИ ЖТПОФБИ, ДЕМБ Х ОЕЗП ВПМЕЕ ЙМЙ НЕОЕЕ РПЫМЙ. л ОЕХДБЮОЙЛБН УМЕДХЕФ ПФОЕУФЙ Й ж.й. зПМЙЛПЧБ, ЛПФПТПНХ РТЙЫМПУШ ХКФЙ У ЖТПОФПЧПЗП ЛПНБОДПЧБОЙС ОБ ЛБДТЩ.
оЕ ТБЪ НОЕ РТЙИПДЙМПУШ ИМПРПФБФШ ЪБ ЛПЗП-ОЙВХДШ РЕТЕД чЕТИПЧОЩН зМБЧОПЛПНБОДХАЭЙН ЙМЙ ВЩФШ УЧЙДЕФЕМЕН ФПЗП, ЛБЛ ЬФП ДЕМБАФ ДТХЗЙЕ. фБЛ, ПДОБЦДЩ, ОЕЙЪЧЕУФОП ЛБЛЙНЙ РХФСНЙ, РПСЧЙМУС Х НЕОС ОБ УФПМЕ ЪБНХУПМЕООЩК ФТЕХЗПМШОЙЛ-РЙУШНП: «зТБЦДБОЙОХ ЛПНБОДХАЭЕНХ зПМПЧБОПЧХ». рТЙЪОБФШУС, У ФБЛЙНЙ БДТЕУБНЙ С ЕЭЕ РЙУЕН ОЕ РПМХЮБМ. вЩУФТП ЧУЛТЩЧ ЕЗП, УТБЪХ РПУНПФТЕМ ОБ РПДРЙУШ: «нБОУЧЕФПЧ». оЕХЦЕМЙ ЬФП ЛПНБОДЙТ ПФТСДБ ЙЪ чПУФПЮОП-уЙВЙТУЛПЗП ХРТБЧМЕОЙС зчж?
дЕКУФЧЙФЕМШОП, РЙУШНП ВЩМП ПФ ОЕЗП, Б УЙДЕМ ПО Ч МБЗЕТСИ ЗДЕ-ФП ОБ лПМЩНЕ, ПВЧЙОЕООЩК Ч ЫРЙПОБЦЕ Ч РПМШЪХ сРПОЙЙ Й БТЕУФПЧБООЩК Ч 1938 ЗПДХ.
нБОУЧЕФПЧ РТПУЙМ РПНПЮШ ЕНХ. уБН ПО РТПЙУИПДЙМ ЙЪ ЗТХЪЙОУЛЙИ ЛОСЪЕК, ОП, ЛБЛ ЙЪЧЕУФОП, ЛОСЪШС ЬФЙ РПДЮБУ, ЛТПНЕ ПВЭЙРБООПЗП РЕФХИБ, ОЙЮЕЗП ОЕ ЙНЕМЙ. лБЛ МЕФЮЙЛ Й ЛПНБОДЙТ ПФТСДБ, нБОУЧЕФПЧ, ПУФБЧБСУШ ВЕУРБТФЙКОЩН, РПМШЪПЧБМУС ВПМШЫЙН БЧФПТЙФЕФПН УТЕДЙ ФПЧБТЙЭЕК, Й ХЦ ЮФП-ЮФП, Б ЧЕТУЙС П ЕЗП СРПОУЛПН ЫРЙПОБЦЕ ОЙЛБЛ ОЕ ХЛМБДЩЧБМБУШ Ч НПЕК ЗПМПЧЕ. чУРПНОЙМ С Й УЧПЙ НЩФБТУФЧБ Ч йТЛХФУЛЕ. нЕОС ЧЕДШ ФПЦЕ РЩФБМЙУШ РТЙПВЭЙФШ Л ЛБЛПК-ФП ТБЪЧЕДЛЕ.
чЕЮЕТПН С РТЙЫЕМ ДПНПК Л й.ч. уФБМЙОХ, ТБУУЛБЪБМ ЕНХ П РПМХЮЕООПН РЙУШНЕ, Б ЪБПДОП Й П УЧПЕК ЙТЛХФУЛПК ЙУФПТЙЙ…
– юФП-ФП П ЛОСЪШСИ нБОУЧЕФПЧЩИ ОЙЮЕЗП ПУПВЕООПЗП ОЕ УМЩЫБМ, – УЛБЪБМ ПО. – чЩ ИПТПЫП ЪОБЕФЕ ЬФПЗП нБОУЧЕФПЧБ?
– с ОЕ ФПМШЛП ИПТПЫП ЕЗП ЪОБА, ОП ТХЮБАУШ ЪБ ОЕЗП Й РТПЫХ ТБЪТЕЫЙФШ ЪБВТБФШ ЕЗП Л ОБН Ч бдд.
– оХ ЮФП ЦЕ, ЕУМЙ ЧЩ ХЧЕТЕОЩ Ч ОЕН Й ТХЮБЕФЕУШ ЪБ ОЕЗП, НЩ УЕКЮБУ РПРТПУЙН ОБРТБЧЙФШ ЕЗП Л ЧБН.
пО РПДПЫЕМ Л ФЕМЕЖПОХ, ОБВТБМ ОПНЕТ.
– х НЕОС зПМПЧБОПЧ. иПДБФБКУФЧХЕФ ЪБ ВЩЧЫЕЗП УЧПЕЗП ЛПНБОДЙТБ ПФТСДБ. уЮЙФБА, РТПУШВХ ЕЗП УМЕДХЕФ ТБУУНПФТЕФШ: ЪТС ЮЕМПЧЕЛ РТПУЙФШ ОЕ ВХДЕФ.
– рТЙЕДЕФЕ Л УЕВЕ, РПЪЧПОЙФЕ вЕТЙС, – УЛБЪБМ уФБМЙО. оБ ЬФПН НЩ Й ТБУРТПУФЙМЙУШ.
лУФБФЙ ЗПЧПТС, уФБМЙО ЧУЕЗДБ, ЛПЗДБ Л ОЕНХ РТЙЕЪЦБМЙ ДПНПК, ЧУФТЕЮБМ Й РЩФБМУС РПНПЮШ ТБЪДЕФШУС, Б РТЙ ХИПДЕ ЗПУФС, ЕУМЙ ЧЩ ВЩМЙ ПДЙО, РТПЧПЦБМ Й РПНПЗБМ ПДЕФШУС. с ЧУЕЗДБ РПЮЕНХ-ФП ЮХЧУФЧПЧБМ УЕВС РТЙ ЬФПН УФТБЫОП ОЕМПЧЛП Й ЧУЕЗДБ, ЧИПДС Ч ДПН, ОБ ИПДХ УОЙНБМ ЫЙОЕМШ ЙМЙ ЖХТБЦЛХ. хИПДС, ФБЛЦЕ УФБТБМУС ВЩУФТЕЕ ЧЩКФЙ ЙЪ ЛПНОБФЩ Й ПДЕФШУС ДП ФПЗП, ЛБЛ РПДПКДЕФ уФБМЙО. фБЛ ВЩМП Й ОБ ЬФПФ ТБЪ.
рТЙЕИБМ Л УЕВЕ Ч ЫФБВ, НОЕ УЛБЪБМЙ, ЮФП ДЧБЦДЩ ХЦЕ ЪЧПОЙМЙ ПФ вЕТЙС Й ЮФПВЩ С УЕКЮБУ ЦЕ ЕНХ РПЪЧПОЙМ.
– юФП ЬФП Х ФЕВС ФБН ЪБ РТЙСФЕМШ УЙДЙФ?! – ЗТХВП УРТПУЙМ НЕОС вЕТЙС, ЛБЛ ФПМШЛП С У ОЙН УПЕДЙОЙМУС.
с РПОСМ, ЮФП ПО ВЩМ ОЕДПЧПМЕО НПЙН ОЕРПУТЕДУФЧЕООЩН ПВТБЭЕОЙЕН Л уФБМЙОХ.
с ТБУУЛБЪБМ П УХФЙ ДЕМБ Й УППВЭЙМ, ЗДЕ ОБИПДЙФУС нБОУЧЕФПЧ. юЕТЕЪ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС НОЕ РПЪЧПОЙМ вЕТЙС Й УЛБЪБМ, ЮФП нБОУЧЕФПЧ УЛПТП РТЙВХДЕФ ЛП НОЕ Й ЮФПВЩ С ОБРЙУБМ ДПЛХНЕОФ У РТПУШВПК П ЕЗП ПУЧПВПЦДЕОЙЙ Й ОБРТБЧМЕОЙЙ Ч НПЕ ТБУРПТСЦЕОЙЕ. чРТЕДШ, ДБМ ХЛБЪБОЙЕ вЕТЙС, РП ЬФЙН ЧПРТПУБН ВЕУРПЛПЙФШ уФБМЙОБ ОЕ ОХЦОП, Б ЕУМЙ ЮФП-МЙВП ЧПЪОЙЛОЕФ, ПВТБЭБФШУС ОЕРПУТЕДУФЧЕООП Л ОЕНХ, ЮЕН С Й ОЕ РТЕНЙОХМ Ч ДБМШОЕКЫЕН ЧПУРПМШЪПЧБФШУС.
ч ФПФ ЦЕ ДЕОШ НОПА ВЩМП ОБРЙУБОП ПЖЙГЙБМШОПЕ РЙУШНП Ч оБТЛПНЧОХДЕМ.
юЕТЕЪ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС НОЕ РПЪЧПОЙМЙ Й УППВЭЙМЙ, ЮФП нБОУЧЕФПЧ УЛПТП РТЙВХДЕФ ЛП НОЕ. дЕКУФЧЙФЕМШОП, ПО РТЙВЩМ ВХЛЧБМШОП ЮЕТЕЪ ОЕУЛПМШЛП ДОЕК, ЧПЕЧБМ ПФМЙЮОП, РПМХЮЙМ ОЕУЛПМШЛП ВПЕЧЩИ ОБЗТБД Й ЪБЛПОЮЙМ ЧПКОХ НБКПТПН. нОПЗП УДЕМБМ ПО ВПЕЧЩИ ЧЩМЕФПЧ РП ПВЕУРЕЮЕОЙА АЗПУМБЧУЛЙИ РБТФЙЪБО, ЮФП СЧМСМПУШ Ч ФП ЧТЕНС ЧЕУШНБ УМПЦОЩН ДЕМПН Й П ЮЕН С ОБРЙЫХ ОЕУЛПМШЛП РПЪЦЕ. чП ЧУСЛПН УМХЮБЕ, ПО ВЩМ ЙУФЙООЩН УПЧЕФУЛЙН РБФТЙПФПН Й РТЕЛТБУОЩН МЕФЮЙЛПН.
чРПУМЕДУФЧЙЙ НОЕ ХДБМПУШ ДПЗПЧПТЙФШУС Й П ФПН, ЮФП ЧУЕ УВЙФЩЕ МЕФЮЙЛЙ Й ЮМЕОЩ ОБЫЙИ ВПЕЧЩИ ЬЛЙРБЦЕК, РПРБЧЫЙЕ ФЕНЙ ЙМЙ ЙОЩНЙ РХФСНЙ УОПЧБ ОБ ОБЫХ ФЕТТЙФПТЙА, ВХДХФ ОЕНЕДМЕООП ЧПЪЧТБЭБФШУС Ч бдд, НЙОХС ЧУСЛЙЕ НЕУФБ РТПЧЕТПЛ. фБЛ ЧУА ЧПКОХ Й ДЕМБМПУШ.
***
юФПВЩ РПЛБЪБФШ МЙГП уФБМЙОБ, ИПФЕМ ВЩ РТЙЧЕУФЙ ЕЭЕ ПДЙО РТЙНЕТ. нОЕ ДПМПЦЙМЙ, ЮФП РТЙЕИБМ БЧЙБГЙПООЩК ЛПОУФТХЛФПТ б.о. фХРПМЕЧ Й ИПЮЕФ УП НОПК РЕТЕЗПЧПТЙФШ.
– рХУФШ УЕКЮБУ ЦЕ ЪБИПДЙФ. ъБЮЕН ЧЩ НОЕ РТЕДЧБТЙФЕМШОП ДПЛМБДЩЧБЕФЕ?!
– дЕМП Ч ФПН, ФПЧБТЙЭ ЛПНБОДХАЭЙК, ЮФП бОДТЕК оЙЛПМБЕЧЙЮ РПД ПИТБОПК… лБЛ ЕЗП – ПДОПЗП Л ЧБН ЙМЙ У ПИТБОПК?
– лПОЕЮОП ПДОПЗП!
чПЫЕМ бОДТЕК оЙЛПМБЕЧЙЮ фХРПМЕЧ. ьФПФ ЧЕМЙЛЙК ПРФЙНЙУФ, ЛПФПТПНХ ОЕМЕЗЛП ДПУФБМБУШ ЦЙЪОШ, ХМЩВБСУШ, РПЪДПТПЧБМУС. с РТЕДМПЦЙМ ЕНХ УЕУФШ, ЮХЧУФЧХС ЛБЛХА-ФП ОЕМПЧЛПУФШ, УМПЧОП Й С ЧЙОПЧБФ Ч ЕЗП ФЕРЕТЕЫОЕН РПМПЦЕОЙЙ. тБЪЗПЧПТ ЪБЫЕМ П ЖТПОФПЧПН ВПНВБТДЙТПЧЭЙЛЕ фХ-2 Й П ЧПЪНПЦОПУФЙ ЕЗП РТЙНЕОЕОЙС Ч бЧЙБГЙЙ ДБМШОЕЗП ДЕКУФЧЙС.
оЕУНПФТС ОБ УЧПЙ ИПТПЫЙЕ, РП ФПЗДБЫОЙН ЧТЕНЕОБН, ЛБЮЕУФЧБ, ЬФПФ УБНПМЕФ ВЩМ ТБУУЮЙФБО ОБ ПДОПЗП МЕФЮЙЛБ, ЮФП РТЙ ДМЙФЕМШОЩИ РПМЕФБИ ОБУ ОЕ ХУФТБЙЧБМП. лПОУФТХЛФПТ УЛБЪБМ, ЮФП ЕУФШ ЧПЪНПЦОПУФШ РПУБДЙФШ Ч ЬФПФ УБНПМЕФ ЧФПТПЗП МЕФЮЙЛБ, Й РПЛБЪБМ, ЛБЛ ОХЦОП ХУПЧЕТЫЕОУФЧПЧБФШ ЛБВЙОХ. б С УМХЫБМ ЕЗП Й ДХНБМ: «чПФ ЬФП ЮЕМПЧЕЛ! х ОЕЗП ФБЛЙЕ ОЕРТЙСФОПУФЙ, Б ПО ОЕ РЕТЕУФБЕФ ЪБОЙНБФШУС МАВЙНЩН ДЕМПН, РТПДПМЦБЕФ ЪБВПФЙФШУС ПВ ХЛТЕРМЕОЙЙ ОБЫЙИ чПЕООП-чПЪДХЫОЩИ уЙМ». нОЕ УФБМП ОЕ РП УЕВЕ. с ЮХЧУФЧПЧБМ Й РПОЙНБМ, ЮФП ФБЛПЕ ПФОПЫЕОЙЕ Л МАДСН – ЬФП «ПФТЩЦЛЙ» РЕЮБМШОПЗП РТПЫМПЗП, ЛПФПТПЕ С Й УБН РЕТЕЦЙМ. й С ТЕЫЙМ, ЮФП ОБДП ПВ ЬФПН РПЗПЧПТЙФШ УП уФБМЙОЩН.
чУЛПТЕ С ВЩМ Ч лТЕНМЕ. дПМПЦЙМ чЕТИПЧОПНХ П УЧПЙИ ДЕМБИ, Й ОБ ЧПРТПУ, ЮФП ОПЧПЗП, РЕТЕДБМ П УЧПЕК ВЕУЕДЕ У ЛПОУФТХЛФПТПН Й ЕЗП РТЕДМПЦЕОЙЙ ЙУРПМШЪПЧБФШ ЬФПФ УБНПМЕФ Ч бдд.
чЕТИПЧОЩК зМБЧОПЛПНБОДХАЭЙК ЪБЙОФЕТЕУПЧБМУС ФБЛПК ЧПЪНПЦОПУФША Й УРТПУЙМ, ЮФП ДМС ЬФПЗП ОХЦОП.
дПМПЦЙЧ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ фХ-2, С ЧЩУЛБЪБМ НОЕОЙЕ, ЮФП ВЕЪ ЧФПТПЗП МЕФЮЙЛБ УБНПМЕФ ДМС бдд ОЕ РПДПКДЕФ, ФБЛ ЛБЛ ВПЕЧБС ТБВПФБ ОБ йМ-4, ФПЦЕ У ПДОЙН МЕФЮЙЛПН, ЧЩЪЩЧБЕФ Х ОБУ ВПМШЫЙЕ ФТХДОПУФЙ, ЙУЛМАЮБАЭЙЕ ЧПЪНПЦОПУФШ РТПЧПЪЛЙ ОБ ВПЕЧЩЕ ЪБДБОЙС ЧЧПДЙНЩИ Ч УФТПК РЙМПФПЧ ЙЪ-ЪБ ПФУХФУФЧЙС ЧФПТПЗП ХРТБЧМЕОЙС, Б ФБЛЦЕ Ч УЧСЪЙ У ФЕН, ЮФП НОПЗПЮБУПЧПЕ, ВЕЪ ЛБЛПЗП-МЙВП ПФДЩИБ, РТЕВЩЧБОЙЕ Ч ЧПЪДХИЕ ОБ ЬФПН УБНПМЕФЕ УЙМШОП ХФПНМСЕФ МЕФЮЙЛБ. уФБМЙО У ЬФЙН УПЗМБУЙМУС.
чУЕ ЧПРТПУЩ ВЩМЙ ТЕЫЕОЩ, ОП С ОЕ ХИПДЙМ.
– чЩ ЮФП-ФП ИПФЙФЕ Х НЕОС УРТПУЙФШ?
– фПЧБТЙЭ уФБМЙО, ЪБ ЮФП УЙДЙФ фХРПМЕЧ?..
чПРТПУ ВЩМ ОЕПЦЙДБООЩН.
чПГБТЙМПУШ ДПЧПМШОП ДМЙФЕМШОПЕ НПМЮБОЙЕ. уФБМЙО, ЧЙДЙНП, ТБЪНЩЫМСМ.
– зПЧПТСФ, ЮФП ПО ОЕ ФП БОЗМЙКУЛЙК, ОЕ ФП БНЕТЙЛБОУЛЙК ЫРЙПО… – фПО ПФЧЕФБ ВЩМ ОЕПВЩЮЕО, ОЕ ВЩМП Ч ОЕН ОЙ ФЧЕТДПУФЙ, ОЙ ХЧЕТЕООПУФЙ.
– оЕХЦЕМЙ ЧЩ ЬФПНХ ЧЕТЙФЕ, ФПЧБТЙЭ уФБМЙО?! – ЧЩТЧБМПУШ Х НЕОС.
– б ФЩ ЧЕТЙЫШ?! – РЕТЕИПДС ОБ «ФЩ» Й РТЙВМЙЪЙЧЫЙУШ ЛП НОЕ ЧРМПФОХА, УРТПУЙМ ПО.
– оЕФ, ОЕ ЧЕТА, – ТЕЫЙФЕМШОП ПФЧЕФЙМ С.
– й С ОЕ ЧЕТА! – ЧДТХЗ ПФЧЕФЙМ уФБМЙО.
фБЛПЗП ПФЧЕФБ С ОЕ ПЦЙДБМ Й УФПСМ Ч ЗМХВПЮБКЫЕН ЙЪХНМЕОЙЙ.
– чУЕЗП ИПТПЫЕЗП, – РПДОСЧ ТХЛХ, УЛБЪБМ уФБМЙО. ьФП ЪОБЮЙМП, ЮФП ОБ УЕЗПДОС ТБЪЗПЧПТ УП НОПК ПЛПОЮЕО.
с ЧЩЫЕМ. нОПЗПЕ С РЕТЕДХНБМ РП ДПТПЗЕ Ч УЧПК ЫФБВ…
юЕТЕЪ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС С ХЪОБМ ПВ ПУЧПВПЦДЕОЙЙ бОДТЕС оЙЛПМБЕЧЙЮБ, ЮЕНХ ВЩМ ОЕУЛБЪБООП ТБД. тБЪЗПЧПТПЧ ОБ ЬФХ ФЕНХ УП уФБМЙОЩН ВПМШЫЕ ОЙЛПЗДБ ОЕ ВЩМП.
тБВПФБС Ч уФБЧЛЕ, С ОЕ ТБЪ ХВЕЦДБМУС: УПНОЕЧБСУШ Ч ЮЕН-ФП, уФБМЙО ЙУЛБМ ПФЧЕФ, Й ЕУМЙ ПО ОБИПДЙМ ЬФПФ ПФЧЕФ Х МАДЕК, У НОЕОЙЕН ЛПФПТЩИ УЮЙФБМУС, ЧПРТПУ ТЕЫБМУС НЗОПЧЕООП. чРПУМЕДУФЧЙЙ С ХЪОБМ, ЮФП ДПВТХА ТПМШ Ч ЦЙЪОЙ ТСДБ ТХЛПЧПДСЭЙИ ТБВПФОЙЛПЧ УЩЗТБМЙ НБТЫБМЩ у.л. фЙНПЫЕОЛП Й з.л. цХЛПЧ. оП, Л УПЦБМЕОЙА, Ч ФЕ ЧТЕНЕОБ НБМП ОБИПДЙМПУШ ФПЧБТЙЭЕК, ВТБЧЫЙИ ОБ УЕВС ПФЧЕФУФЧЕООПУФШ ЪБ ФЕИ ЙМЙ ЙОЩИ МАДЕК, ИПФС ФБЛЙЕ ЧПЪНПЦОПУФЙ, ЛПОЕЮОП, ВЩМЙ Х ЛБЦДПЗП ПВЭБЧЫЕЗПУС УП уФБМЙОЩН. пУПВЕООП НОЕ ИПФЕМПУШ ВЩ ЧЩДЕМЙФШ уЕНЈОБ лПОУФБОФЙОПЧЙЮБ фЙНПЫЕОЛП. нОПЗЙИ ЧЩЪЧПМЙМ ПО ЙЪ ВЕДЩ, Б ОЕЛПФПТЩЕ ЙЪВЕЦБМЙ БТЕУФБ ВМБЗПДБТС ЕЗП РТСНПНХ ЧНЕЫБФЕМШУФЧХ.
…рПНОА ПДЙО УМХЮБК, П ЛПФПТПН ХЪОБМ С ЙЪ ТБЪЗПЧПТПЧ Ч уФБЧЛЕ. дЕМП ВЩМП ФБЛ: РТЙВЩМ МЕФЮЙЛ-ЙУФТЕВЙФЕМШ Ч лТЕНМШ, Ч чЕТИПЧОЩК уПЧЕФ, РПМХЮБФШ УЧПА ОБЗТБДХ – ъЧЕЪДХ зЕТПС уПЧЕФУЛПЗП уПАЪБ. ъЧЕЪДХ ПО РПМХЮЙМ, ПФНЕФЙМ, ЛПОЕЮОП, У ФПЧБТЙЭБНЙ ЬФП УПВЩФЙЕ Й ХЦЕ ОПЮША ЫЕМ Ч РТЙРПДОСФПН ОБУФТПЕОЙЙ ДПНПК. чДТХЗ ПО ХУМЩЫБМ ЦЕОУЛЙК ЛТЙЛ. рПУРЕЫЙЧ ОБ РПНПЭШ, МЕФЮЙЛ ХЧЙДЕМ ДЕЧХЫЛХ Й ЧПЪМЕ ОЕЕ НХЦЮЙОХ. ъБМЙЧБСУШ УМЕЪБНЙ, ДЕЧХЫЛБ ПВЯСУОЙМБ, ЮФП Л ОЕК РТЙУФБЕФ ОЕЙЪЧЕУФОЩК ЗТБЦДБОЙО. пЛПОЮЙМПУШ ДЕМП ФТБЗЙЮЕУЛЙ: МЕФЮЙЛ ЪБУФТЕМЙМ ОЕЙЪЧЕУФОПЗП.
нПУЛЧБ ВЩМБ ОБ ЧПЕООПН РПМПЦЕОЙЙ. рПСЧЙМУС РБФТХМШ, МЕФЮЙЛБ ЪБДЕТЦБМЙ Й ДПУФБЧЙМЙ Ч ЛПНЕОДБФХТХ. хВЙФЩК ПЛБЪБМУС ПФЧЕФУФЧЕООЩН ТБВПФОЙЛПН ФБОЛПЧПК РТПНЩЫМЕООПУФЙ. дЕМП ВЩМП ДПМПЦЕОП уФБМЙОХ. тБЪПВТБЧЫЙУШ ЧП ЧУЕИ ДЕФБМСИ, чЕТИПЧОЩК зМБЧОПЛПНБОДХАЭЙК УРТПУЙМ, ЮФП РП УПЧЕФУЛЙН ЪБЛПОБН НПЦОП УДЕМБФШ ДМС МЕФЮЙЛБ. еНХ УЛБЪБМЙ: НПЦОП ФПМШЛП ЧЪСФШ ЕЗП ОБ РПТХЛЙ ДП УХДБ. уФБМЙО ОБРЙУБМ ЪБСЧМЕОЙЕ Ч рТЕЪЙДЙХН чЕТИПЧОПЗП уПЧЕФБ У РТПУШВПК ПФДБФШ МЕФЮЙЛБ ОБ РПТХЛЙ. рТПУШВХ ХДПЧМЕФЧПТЙМЙ, МЕФЮЙЛБ ПУЧПВПДЙМЙ, Й ЕНХ ВЩМП УЛБЪБМП, ЮФП ЕЗП ЧЪСМ ОБ РПТХЛЙ ФПЧБТЙЭ уФБМЙО. мЕФЮЙЛ ЧЕТОХМУС Ч УЧПА ЮБУФШ, ЗЕТПКУЛЙ УТБЦБМУС Й РПЗЙВ Ч ЧПЪДХЫОПН ВПА.
уФБМЙО ОЕТЕДЛП ЗПЧПТЙМ, ЮФП ЗПФПЧ НЙТЙФШУС УП НОПЗЙНЙ ОЕДПУФБФЛБНЙ Ч ЮЕМПЧЕЛЕ, МЙЫШ ВЩ ЗПМПЧБ Х ОЕЗП ВЩМБ ОБ РМЕЮБИ. чУРПНЙОБЕФУС ФБЛПК УМХЮБК: чЕТИПЧОЩК зМБЧОПЛПНБОДХАЭЙК ВЩМ ОЕДПЧПМЕО ТБВПФПК зМБЧОПЗП ЫФБВБ чнж Й УЮЙФБМ, ЮФП ДМС РПМШЪЩ ДЕМБ ОХЦОП ЪБНЕОЙФШ ЕЗП ОБЮБМШОЙЛБ. тЕЛПНЕОДПЧБМЙ ОБ ЬФХ ДПМЦОПУФШ БДНЙТБМБ йУБЛПЧБ. оБТЛПНПН чПЕООП-нПТУЛПЗП жМПФБ ФПЗДБ ВЩМ о.з. лХЪОЕГПЧ, ЛПФПТЩК УПЗМБУЙМУС У ЛБОДЙДБФХТПК, ОП ЪБНЕФЙМ, ЮФП йУБЛПЧХ ФТХДОП ВХДЕФ ТБВПФБФШ, ФБЛ ЛБЛ ЕНХ БНРХФЙТПЧБМЙ ОПЗХ.
– с ДХНБА, ЮФП МХЮЫЕ ТБВПФБФШ У ЮЕМПЧЕЛПН ВЕЪ ОПЗЙ, ЮЕН У ЮЕМПЧЕЛПН ВЕЪ ЗПМПЧЩ, – УЛБЪБМ уФБМЙО.
оБ ЬФПН Й РПТЕЫЙМЙ.
дБЦЕ Ч ФСЦЛЙЕ ЗПДЩ ЧПКОЩ уФБМЙО У ВПМШЫЙН ЧОЙНБОЙЕН ПФОПУЙМУС ЛП ЧУЕНХ ОПЧПНХ, РТПЗТЕУУЙЧОПНХ, ОЕПВИПДЙНПНХ.
ч ПДОХ ЙЪ ОПЮЕК ЪБЫЕМ ЛП НОЕ НПК ЪБНЕУФЙФЕМШ РП УЧСЪЙ Й ТБДЙПОБЧЙЗБГЙЙ о.б. вБКЛХЪПЧ Й УЛБЪБМ, ЮФП НЕОС ИПЮЕФ ЧЙДЕФШ бЛУЕМШ йЧБОПЧЙЮ вЕТЗ, Х ЛПФПТПЗП ЕУФШ НОПЗП ЧБЦОЩИ Й ЙОФЕТЕУОЩИ НЩУМЕК. фБЛ ЛБЛ ТБДЙПОБЧЙЗБГЙС Й ТБДЙПМПЛБГЙС ВЩМЙ Х ОБУ Ч бдд ПУОПЧОЩНЙ УРПУПВБНЙ УБНПМЕФПЧПЦДЕОЙС, С У ЗПФПЧОПУФША ЧУФТЕФЙМУС У бЛУЕМЕН йЧБОПЧЙЮЕН. вЩМ ПО Ч ФП ЧТЕНС, ЕУМЙ ОЕ ПЫЙВБАУШ, ЙОЦЕОЕТ-ЛПОФТ-БДНЙТБМПН. вЕУЕДПЧБМЙ НЩ ДПМЗП. чПРТПУЩ, РПУФБЧМЕООЩЕ ЙН, ЙНЕМЙ ЗПУХДБТУФЧЕООПЕ ЪОБЮЕОЙЕ. тБДЙПМПЛБГЙПООБС РТПНЩЫМЕООПУФШ ФПЗДБ Х ОБУ РПЮФЙ ПФУХФУФЧПЧБМБ. дПУФБФПЮОП УЛБЪБФШ, ЮФП ВПЕЧЩЕ ЛПТБВМЙ БОЗМЙКУЛПЗП ЖМПФБ ЙНЕМЙ ОБ ВПТФХ МПЛБФПТЩ, Ч ФП ЧТЕНС ЛБЛ Х ОБУ ПВ ЬФПН ВЩМП ЧЕУШНБ ФХНБООПЕ РТЕДУФБЧМЕОЙЕ. фПЮОП ФБЛ ЦЕ ПВУФПСМЙ ДЕМБ Й Ч БЧЙБГЙЙ. б ДЧЙЗБФШУС ЧРЕТЕД ВЕЪ ТБДЙПМПЛБГЙПООПК БРРБТБФХТЩ ВЩМП ОЕНЩУМЙНП. бЛУЕМШ йЧБОПЧЙЮ РЕТЕДБМ НОЕ ПВЯЕНЙУФЩК ДПЛМБД, ЛПФПТЩК ПО ВЕЪТЕЪХМШФБФОП ТБУУЩМБМ РП ЧУЕН ЙОУФБОГЙСН. еЗП УППВТБЦЕОЙС П ТБЪЧЙФЙЙ ЬФПК ПВМБУФЙ РТПНЩЫМЕООПУФЙ ВЩМЙ ЧЕУШНБ ЧБЦОЩ.
с ДПМПЦЙМ П РТЕДМПЦЕОЙСИ б.й. вЕТЗБ уФБМЙОХ, Й Ч ФПФ ЦЕ ДЕОШ ВЩМП РТЙОСФП ТЕЫЕОЙЕ П УПЪДБОЙЙ уПЧЕФБ РП ТБДЙПМПЛБГЙЙ РТЙ злп ЧП ЗМБЧЕ У з.н. нБМЕОЛПЧЩН. б.й. вЕТЗ ВЩМ ОБЪОБЮЕО ЪБНЕУФЙФЕМЕН РТЕДУЕДБФЕМС ЬФПЗП уПЧЕФБ. фБЛ ТЕЫБМЙУШ ЧБЦОЩЕ ДМС ЗПУХДБТУФЧБ ЧПРТПУЩ.
чУСЛПЕ ДЕМП уФБМЙО РПДЮЙОСМ ПРТЕДЕМЕООПК, ЛПОЛТЕФОПК ГЕМЙ. фБЛ, в.н. ыБРПЫОЙЛПЧ, ОБЪОБЮЕООЩК ОБЮБМШОЙЛПН бЛБДЕНЙЙ зЕОЕТБМШОПЗП ЫФБВБ, РТЕДУФБЧЙМ РМБО ЪБОСФЙК УП УМХЫБФЕМСНЙ, ЗДЕ РТЙНЕТОП ФТЕФШ ЧТЕНЕОЙ УТБЧОЙФЕМШОП ЛТБФЛПУТПЮОПЗП ЛХТУБ ПФЧПДЙМБУШ РПМЙФЙЮЕУЛПНХ ПВТБЪПЧБОЙА. рТПЮЙФБЧ РТЕДУФБЧМЕООЩК РМБО, уФБМЙО ЧЕУШ ЬФПФ ТБЪДЕМ ЧЩЮЕТЛОХМ Й ДБМ ХЛБЪБОЙЕ ТБУЫЙТЙФШ ЧПЕООЩЕ ДЙУГЙРМЙОЩ, УЛБЪБЧ РТЙ ЬФПН:
– уЧПА РПМЙФЙЮЕУЛХА ПВТБЪПЧБООПУФШ ОБЫЙ ЛПНБОДОЩЕ ЛБДТЩ ПЮЕОШ ИПТПЫП РПЛБЪБМЙ Й РПЛБЪЩЧБАФ ОБ ЖТПОФЕ, Б ЧПФ ЧПЕООЩИ РПЪОБОЙК ЙН ЕЭЕ ОЕ ИЧБФБЕФ. ьФП – ЗМБЧОПЕ, ОБ ЬФП Й ДЕМБКФЕ ХРПТ.
***
лБЛ С ХЦЕ ХРПНЙОБМ, уФБМЙО ЮБУФП ЪЧПОЙМ РП ФЕМЕЖПОХ Й УРТБЧМСМУС П ДЕМБИ. чЕУШНБ ОЕТЕДЛП ПО УРТБЫЙЧБМ ФБЛЦЕ Й П ЪДПТПЧШЕ, Й П УЕНШЕ: «еУФШ МЙ Х ЧБУ ЧУЕ, ОЕ ОХЦДБЕФЕУШ МЙ Ч ЮЕН, ОЕ ОХЦОП МЙ ЮЕН-МЙВП РПНПЮШ УЕНШЕ?» уФТПЗЙК УРТПУ РП ТБВПФЕ Й ПДОПЧТЕНЕООП ЪБВПФБ П ЮЕМПЧЕЛЕ ВЩМЙ Х ОЕЗП ОЕТБЪТЩЧОЩ, ПОЙ УПЮЕФБМЙУШ Ч ОЕН ФБЛ ЕУФЕУФЧЕООП, ЛБЛ ДЧЕ ЮБУФЙ ПДОПЗП ГЕМПЗП, Й ПЮЕОШ ГЕОЙМЙУШ ЧУЕНЙ ВМЙЪЛП УПРТЙЛБУБЧЫЙНЙУС У ОЙН МАДШНЙ. рПУМЕ ФБЛЙИ ТБЪЗПЧПТПЧ ЛБЛ-ФП ЪБВЩЧБМЙУШ ФСЗПФЩ Й ОЕЧЪЗПДЩ. чЩ ЮХЧУФЧПЧБМЙ, ЮФП У ЧБНЙ ЗПЧПТЙФ ОЕ ФПМШЛП ЧЕТЫЙФЕМШ УХДЕВ, ОП Й РТПУФП ЮЕМПЧЕЛ…
оП ВЩМЙ РП ЬФПК ЮБУФЙ, С ВЩ УЛБЪБМ, Й ЛХТШЕЪЩ. пФДЕМШОЩЕ ФПЧБТЙЭЙ ЧПУРТЙОЙНБМЙ ЪБВПФХ П ОЙИ РП ЙЪЧЕУФОПК РПЗПЧПТЛЕ: ТБЪ ДБАФ – ВЕТЙ… пДОПЗП ФПЧБТЙЭБ ОБЪОБЮЙМЙ ОБ ЧЕУШНБ ПФЧЕФУФЧЕООЩК РПУФ, Й, ЕУФЕУФЧЕООП, ПВЭЕОЙЕ УП уФБМЙОЩН УФБМП ДМС ОЕЗП ЮБУФЩН. лБЛ-ФП уФБМЙО РПЙОФЕТЕУПЧБМУС, ЛБЛ ЬФПФ ФПЧБТЙЭ ЦЙЧЕФ, ОЕ ОХЦОП МЙ ЕНХ ЮЕЗП-ОЙВХДШ, ЛБЛПЧЩ ЕЗП ЦЙМЙЭОЩЕ ХУМПЧЙС. пЛБЪЩЧБЕФУС, ЕНХ ОХЦОБ ВЩМБ ЛЧБТФЙТБ. лЧБТФЙТХ ПО, ЛПОЕЮОП, РПМХЮЙМ, Б Ч УЛПТПН ЧТЕНЕОЙ уФБМЙО ПРСФШ ЕЗП УРТПУЙМ, ОЕФ МЙ Ч ЮЕН-МЙВП ОХЦДЩ. пЛБЪБМПУШ, ФП МЙ ЕЗП ФЕЭБ, ФП МЙ ЛБЛБС-ФП ТПДУФЧЕООЙГБ ФПЦЕ ИПФЕМБ ВЩ РПМХЮЙФШ ЦЙМРМПЭБДШ. фБЛБС РМПЭБДШ ВЩМБ РПМХЮЕОБ. ч УМЕДХАЭЙК ТБЪ ФПЧБТЙЭ, ЧЙДС, ЮФП ПФЛБЪБ ОЙ Ч ЮЕН ОЕФ, ХЦЕ УБН РПУФБЧЙМ ЧПРТПУ П РТЕДПУФБЧМЕОЙЙ ЛЧБТФЙТЩ ЕЭЕ ЛПНХ-ФП ЙЪ УЧПЙИ ТПДУФЧЕООЙЛПЧ. оБ ЬФПН, УПВУФЧЕООП, Й ЪБЛПОЮЙМБУШ ЕЗП УМХЦЕВОБС ЛБТШЕТБ, ИПФС уФБМЙО Й РПТХЮЙМ УЧПЕНХ РПНПЭОЙЛХ б.о. рПУЛТЈВЩЫЕЧХ ТБУУНПФТЕФШ ЧПРТПУ П ЧПЪНПЦОПУФЙ ХДПЧМЕФЧПТЕОЙС Й ЬФПК РТПУШВЩ. оЕ ЪОБА, РПМХЮЙМ МЙ ПО ЕЭЕ ПДОХ ЛЧБТФЙТХ, ОП Ч уФБЧЛЕ С ЕЗП ВПМШЫЕ ОЕ ЧУФТЕЮБМ, ИПФС ЪОБМ, ЮФП УМХЦВХ УЧПА Ч БТНЙЙ ПО РТПДПМЦБЕФ.
уФБМЙО ПЮЕОШ ОЕ МАВЙМ, ЮФПВЩ ФПЧБТЙЭЙ, ЪБОЙНБАЭЙЕ ВПМШЫЙЕ ЗПУХДБТУФЧЕООЩЕ РПУФЩ, ПУПВЕООП РПМЙФЙЮЕУЛЙЕ, ЮЕН-ФП ПУПВЕООП ЧЩДЕМСМЙУШ УТЕДЙ ПЛТХЦБАЭЙИ. фБЛ, ОБРТЙНЕТ, ХЪОБЧ, ЮФП ЮМЕОЩ чПЕООЩИ УПЧЕФПЧ ЖТПОФПЧ о.б. вХМЗБОЙО Й м.ъ. нЕИМЙУ ЪБЧЕМЙ УЕВЕ ПВУМХЦЙЧБАЭЙК РЕТУПОБМ Й МЙЮОЩИ РПЧБТПЧ, УОСМ ЙИ У ЪБОЙНБЕНЩИ РПУФПЧ ОБ ЬФЙИ ЖТПОФБИ.
уФБМЙО ОЕ ТБЪ ЪБНЕЮБМ, ЮФП ТЕЫБФШ ДЕМБ ДХЫПК Й УЕТДГЕН НПЦОП ДПНБ, УП ЪОБЛПНЩНЙ, – ФБЛ УЛБЪБФШ, ДЕМБ ДПНБЫОЕЗП ПВЙИПДБ, ЮБУФОЩЕ. рТЙ ТЕЫЕОЙЙ ЦЕ ЗПУХДБТУФЧЕООЩИ ЧПРТПУПЧ РПМБЗБФШУС ОБ УЧПА ДХЫХ Й УЕТДГЕ ОЕМШЪС, ПОЙ НПЗХФ РПДЧЕУФЙ. ъДЕУШ ДПМЦОЩ ДЕКУФЧПЧБФШ ФПМШЛП ЪДТБЧЩК УНЩУМ, ТБЪХН Й УФТПЗЙК ТБУЮЕФ. рТЙ ЬФПН уФБМЙО ОЕТЕДЛП УУЩМБМУС ОБ чМБДЙНЙТБ йМШЙЮБ мЕОЙОБ, ТБУУЛБЪЩЧБС, ЛБЛ ПО ТЕЫБМ РПИПЦЙК ОБ ПВУХЦДБЕНЩК ЧПРТПУ.
чУС ЦЙЪОШ уФБМЙОБ, ЛПФПТХА НОЕ ДПЧЕМПУШ ОБВМАДБФШ Ч ФЕЮЕОЙЕ ТСДБ МЕФ, ЪБЛМАЮБМБУШ Ч ТБВПФЕ. зДЕ ВЩ ПО ОЙ ВЩМ – ДПНБ, ОБ ТБВПФЕ ЙМЙ ОБ ПФДЩИЕ, – ТБВПФБ, ТБВПФБ Й ТБВПФБ. чЕЪДЕ Й ЧУАДХ ТБВПФБ. чЕЪДЕ Й ЧУАДХ ДЕМБ Й МАДЙ, МАДЙ Й МАДЙ. тБВПЮЙЕ Й ХЮЕОЩЕ, НБТЫБМЩ Й УПМДБФЩ… пЗТПНОПЕ ЮЙУМП МАДЕК РПВЩЧБМП Х уФБМЙОБ! чЙДЙНП, РПЬФПНХ ПО ЪОБМ ДЕМБ МХЮЫЕ ДТХЗЙИ ТХЛПЧПДЙФЕМЕК. оЕРПУТЕДУФЧЕООПЕ ПВЭЕОЙЕ У МАДШНЙ, ХНЕОЙЕ ХУФБОБЧМЙЧБФШ У ОЙНЙ ЛПОФБЛФ, ЪБУФБЧЙФШ ЙИ ЗПЧПТЙФШ УЧПВПДОП, УЧПЙНЙ УМПЧБНЙ Й НЩУМСНЙ, Б ОЕ РП ФТБЖБТЕФХ, ДБЧБМП ЕНХ ЧПЪНПЦОПУФШ ЧОЙЛБФШ ЧП ЧУЕ ДЕФБМЙ.
УЛТПНОПУФШ ЕЗП ЦЙМШС УППФЧЕФУФЧПЧБМБ УЛТПНОПУФЙ ЛЧБТФЙТ ч.й. мЕОЙОБ. иПФЕМПУШ ВЩ УЛБЪБФШ Й П ВЩФЕ чЕТИПЧОПЗП, ЛПФПТЩК НОЕ ДПЧЕМПУШ ОБВМАДБФШ. ьФПФ ВЩФ ВЩМ ФБЛЦЕ ЧЕУШНБ УЛТПНЕО. уФБМЙО ЧМБДЕМ МЙЫШ ФЕН, ЮФП ВЩМП ОБ ОЕН. оЙЛБЛЙИ ЗБТДЕТПВПЧ Х ОЕЗП ОЕ УХЭЕУФЧПЧБМП. чУС ЕЗП ЦЙЪОШ, ЛПФПТХА НОЕ ДПЧЕМПУШ ЧЙДЕФШ, ЪБЛМАЮБМБУШ РПЮФЙ Ч РПУФПСООПН ПВЭЕОЙЙ У МАДШНЙ. еЗП СЧОПК УМБВПУФША ВЩМП ЛЙОП. оЕ ТБЪ ДПЧЕМПУШ НОЕ РТЙУХФУФЧПЧБФШ РТЙ РТПУНПФТЕ ЖЙМШНПЧ. х уФБМЙОБ ВЩМБ ЛБЛБС-ФП ХДЙЧЙФЕМШОБС РПФТЕВОПУФШ РП ФТЙ-ЮЕФЩТЕ ТБЪБ ЛТСДХ УНПФТЕФШ ПДЙО Й ФПФ ЦЕ ЖЙМШН. пУПВЕООП У ВПМШЫЙН ХДПЧПМШУФЧЙЕН УНПФТЕМ ПО ЖЙМШН «еУМЙ ЪБЧФТБ ЧПКОБ». чЙДЙНП, ОТБЧЙМУС ПО РПФПНХ, ЮФП УПВЩФЙС ФБН ТБЪЧЙЧБМЙУШ УПЧУЕН ОЕ ФБЛ, ЛБЛ ПОЙ ТБЪЧЙЧБМЙУШ Ч чЕМЙЛПК пФЕЮЕУФЧЕООПК ЧПКОЕ, ПДОБЛП РПВЕДБ ЧУЕ ЦЕ УПУФПСМБУШ. уНПФТЕМ ПО ЬФПФ ЖЙМШН Й Ч РПУМЕДОЙК ЗПД ЧПКОЩ. у ХДПЧПМШУФЧЙЕН ПО УНПФТЕМ Й УПЪДБООЩК ХЦЕ Ч ИПДЕ ЧПКОЩ ЖЙМШН «рПМЛПЧПДЕГ лХФХЪПЧ». чЙДЙНП, Ч РТПУНПФТЕ ПУПВП РПМАВЙЧЫЙИУС ЕНХ ЛЙОПЛБТФЙО уФБМЙО ОБИПДЙМ УЧПК ПФДЩИ…
БЧФПТ: бМЕЛУБОДТ еЧЗЕОШЕЧЙЮ зПМПЧБОПЧ, Ч ЗПДЩ ЧПКОЩ - ЛПНБОДХАЭЙК БЧЙБГЙЕК ДБМШОЕЗП ДЕКУФЧЙС (бдд) уФБЧЛЙ чЕТИПЧОПЗП зМБЧОПЛПНБОДПЧБОЙС. зЕОЕТБМ-МЕКФЕОБОФ БЧЙБГЙЙ (5 НБС 1942).
– уФБМЙО ОЙ ТБЪХ ОЕ РПЧФПТЙМУС. пО ЗПЧПТЙМ ФБЛ ЦЕ, ЛБЛ УФТЕМСМЙ ЕЗП ЧПКУЛБ, – НЕФЛП Й РТСНП. пО РТЙЧЕФУФЧПЧБМ НЕОС ОЕУЛПМШЛЙНЙ ВЩУФТЩНЙ ТХУУЛЙНЙ УМПЧБНЙ. пО РПЦБМ НОЕ ТХЛХ ЛПТПФЛП, ФЧЕТДП, МАВЕЪОП. пО ФЕРМП ХМЩВБМУС. оЕ ВЩМП ОЙ ПДОПЗП МЙЫОЕЗП УМПЧБ, ЦЕУФБ ЙМЙ ХЦЙНЛЙ. лБЪБМПУШ, ЮФП ЗПЧПТЙЫШ У ЪБНЕЮБФЕМШОП ХТБЧОПЧЕЫЕООПК НБЫЙОПК, ТБЪХНОПК НБЫЙОПК. йПУЙЖ уФБМЙО ЪОБМ, ЮЕЗП ПО ИПЮЕФ, ЪОБМ, ЮЕЗП ИПЮЕФ тПУУЙС, Й ПО РПМБЗБМ, ЮФП ЧЩ ФБЛЦЕ ЬФП ЪОБЕФЕ. чП ЧТЕНС ЬФПЗП ЧФПТПЗП ЧЙЪЙФБ НЩ ТБЪЗПЧБТЙЧБМЙ РПЮФЙ ЮЕФЩТЕ ЮБУБ. еЗП ЧПРТПУЩ ВЩМЙ СУОЩНЙ, ЛТБФЛЙНЙ Й РТСНЩНЙ. лБЛ С ОЙ ХУФБМ, С ПФЧЕЮБМ Ч ФПН ЦЕ ФПОЕ. еЗП ПФЧЕФЩ ВЩМЙ ВЩУФТЩНЙ, ОЕДЧХУНЩУМЕООЩНЙ, ПОЙ РТПЙЪОПУЙМЙУШ ФБЛ, ВХДФП ПОЙ ВЩМЙ ПВДХНБОЩ ЙН НОПЗП МЕФ ОБЪБД.
ЪБ ЧТЕНС ОБЫЕЗП ТБЪЗПЧПТБ ЕЗП ФЕМЕЖПО РПЪЧПОЙМ ФПМШЛП ПДЙО ТБЪ. пО ЙЪЧЙОЙМУС ЪБ ФП, ЮФП РТЕТЧБМ ОБЫХ ВЕУЕДХ, УЛБЪБЧ НОЕ, ЮФП ПО ДПЗПЧБТЙЧБМУС П УЧПЕН ХЦЙОЕ ОБ 12.30 ОПЮЙ. ч ЛПНОБФХ ОЙ ТБЪХ ОЕ ЧИПДЙМ УЕЛТЕФБТШ У ДПОЕУЕОЙСНЙ ЙМЙ ВХНБЗБНЙ. лПЗДБ НЩ РТПЭБМЙУШ, НЩ РПЦБМЙ ДТХЗ ДТХЗХ ТХЛЙ У ФПК ЦЕ ТЕЫЙФЕМШОПУФША. пО УЛБЪБМ «дП УЧЙДБОЙС» ПДЙО ТБЪ, ФПЮОП ФБЛ ЦЕ, ЛБЛ ПО ФПМШЛП ПДЙО ТБЪ УЛБЪБМ «ъДТБЧУФЧХКФЕ». б ЬФП ВЩМП ЧУЈ. нПЦЕФ ВЩФШ, НОЕ ФПМШЛП РПЛБЪБМПУШ, ЮФП ЕЗП ХМЩВЛБ ВЩМБ ВПМЕЕ ДТХЦЕМАВОПК, ОЕНОПЗП ВПМЕЕ ФЕРМПК. вЩФШ НПЦЕФ, ФБЛ ВЩМП РПФПНХ, ЮФП Л УМПЧХ РТПЭБОЙС ПО ДПВБЧЙМ ЧЩТБЦЕОЙЕ ХЧБЦЕОЙС Л РТЕЪЙДЕОФХ уПЕДЙОЕООЩИ ыФБФПЧ.
С ЧУЕЗДБ ЧУФТЕЮБМ Ч ОЕН УПВЕУЕДОЙЛБ ЙОФЕТЕУОПЗП, НТБЮОПЧБФПЗП Й УФТПЗПЗП, Л ЮЕНХ ЮБУФП ПВСЪЩЧБМЙ ПВУХЦДБЧЫЙЕУС ЧПРТПУЩ. с ОЕ ЪОБМ ЮЕМПЧЕЛБ, ЛПФПТЩК ВЩ ФБЛ ЧМБДЕМ УПВПК ОБ УПЧЕЭБОЙСИ. уФБМЙО ВЩМ РТЕЛТБУОП ПУЧЕДПНМЕО РП ЧУЕН ЕЗП ЛБУБАЭЙНУС ЧПРТПУБН, РТЕДХУНПФТЙФЕМЕО Й ПРЕТБФЙЧЕО... ъБ ЧУЕН ЬФЙН, ВЕЪ УПНОЕОЙС, УФПСМБ УЙМБ.
БОФПОЙ йдео, МПТД ькчпо, НЙОЙУФТ ЙОПУФТБООЩИ ДЕМ чЕМЙЛПВТЙФБОЙЙ
Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи Лобанов Михаил Петрович
Ж. Дюкло О Сталине
О Сталине
…После моего возвращения на дачу мне сообщили, что тов. Сталин приглашает меня на обед на следующий день. Моя жена не была приглашена, и я отправился один. Сталин ждал меня в парке своей дачи, где я встретил также нескольких членов Политбюро ЦК большевистской партии. Итак, я вновь увидел Сталина, с которым не встречался с 1928 г. (если не считать, что несколько раз я видел его издалека). С тех пор прошли годы, и какие годы! Была война. Но Сталин, которому исполнилось 72 года, ненамного изменился. Спустя 23 года его лицо по-прежнему сохраняло своеобразные юношеские черты, взгляд по-прежнему отличался живостью, хотя на голове появилась седина и волосы были не такими густыми, как раньше. При этом он казался ниже ростом, что было неизбежным следствием прожитых лет.
Сталин оказал мне самый сердечный, самый любезный и внимательный прием. Он осведомился о моем здоровье, вспомнил об условиях, в которых я жил в годы подполья, показав тем самым, что он в курсе этих событий. Поинтересовавшись здоровьем моей жены, он извинился, что она не была приглашена, поскольку, добавил он, «на нашем обеде будут только одни мужчины».
Думая о той огромной роли, которую играл Сталин во время войны, я восхищался простотой этого человека. Как и 23 года назад, он был в скромном кителе, в сапогах и с неизменной трубкой.
После разговора по более частным вопросам завязалась беседа об общей обстановке, о положении во Франции и в мире, характеризовавшемся усилением «холодной войны».
Пока мы вели все эти разговоры, в парке, под деревьями, был накрыт стол. Это было приятно, так как стоял великолепный солнечный день. За обедом мое место оказалось слева от Сталина, который сидел в конце стола. Справа от него был Молотов.
Среди других участников этого дружеского обеда были также Ворошилов, Хрущев, Шверник.
Сталин, разумеется, сообщил мне сведения о состоянии здоровья Мориса Тореза. Оно улучшалось, в чем, добавил он, я смогу убедиться лично. Сталин отметил, что эти известия о здоровье Мориса он получил сегодня утром по телефону. Он расхваливал климат столицы Кабардино-Балкарской АССР, города Нальчика, где находился Торез.
Во время беседы Сталин вспомнил предположения некоторых ученых относительно этнического родства между грузинами и басками, добавив, что эти гипотезы нуждаются в дальнейшей разработке, чтобы проверить, насколько они близки к истине.
Сталин был остроумен, он явно любил пошутить, и во время обеда мне довелось видеть, как он безобидно подшучивал над сотрапезниками.
На меня Сталин произвел сильное впечатление не только тем, что он говорил, но еще в большей степени тем, что он представлял в моих глазах. Одно его присутствие придавало всему происходившему историческое значение. Со своей стороны, я весьма непринужденно участвовал в общей беседе, затрагивавшей самые разнообразные темы.
В конце обеда у меня состоялся продолжительный разговор наедине со Сталиным о проблемах текущего момента, политике империалистов, начале переговоров о заключении перемирия в Корее, войне в Индокитае, продолжающемся тюремном заключении Анри Мартена, о трудностях, с которыми французские колонизаторы сталкивались в Тунисе и Марокко, о результатах выборов 17 июня, на которых была применена система блокирования списков кандидатов разных партий, о развитии правительственного кризиса во Франции.
Действительно, после выборов 17 июня президент республики поручал формирование правительства поочередно Рене Мейеру, Морису Петшу, Ги Молле. Пока мы беседовали, Сталину принесли сообщения о ходе правительственного кризиса во Франции. Сталин сказал мне, что во время моей по!ездки на Кавказ он будет держать меня в курсе развития обстановки во Франции. У меня оказалось достаточно времени для этой поездки, и я вернулся в Париж 8 августа 1951 г., когда новое правительство предстало перед Национальным собранием.
С большой проницательностью и глубоким знанием дела Сталин говорил об обстановке во Франции, об опасности войны и о положительной роли Всемирного Совета Мира, заседание Бюро которого прошло 20–23 июля.
Вечер подошел к концу, настало время прощаться. Перед моим отъездом Сталин попросил меня передать дружеский привет Морису Торезу и пожелал больших успехов в моей работе, больших успехов в деятельности Французской коммунистической партии, к которой он питал глубокое уважение.
Из книги 1937. АнтиТеррор Сталина автора Шубин Александр ВладленовичЧто построили при Сталине? Представители разных историософских школ не могут договориться о том, что же было построено в СССР. Для одних СССР - «реальный социализм», для других - тоталитаризм, для третьих - этап развития российской цивилизации, для четвертых -
Из книги Ближний круг Сталина. Соратники вождя автора Медведев Рой АлександровичКарьера при Сталине Новый Секретариат ЦК был сформирован после XI съезда партии в составе Сталина, Молотова и Куйбышева. Сталин, ставший теперь Генеральным секретарем, оставил Молотова в Секретариате не только потому, что последний проявил по отношению к нему полную и
автора Борев Юрий БорисовичШАЛЯПИН О СТАЛИНЕ Шаляпин несколько раз встречался со Сталиным на квартире Демьяна Бедного и в Кремле. Великий артист говорил о вожде:? Этот человек не станет шутить. Он столь же легко, как легка его беззвучная кавказская поступь в мягких сапогах, взорвет храм Христа
Из книги Краткий курс сталинизма автора Борев Юрий БорисовичГИТЛЕР О СТАЛИНЕ Мой бывший студент, немец, окончивший МГУ в конце 50-х годов и позже ставший доктором философии, Хайнц Плавиус, рассказывал мне о дошедшем до него высказывании Гитлера: Сталин жесток, как зверь, и подл, как человек. Когда завоюю Россию? назначу Сталина ее
Из книги Восток - Запад. Звезды политического сыска автора Макаревич Эдуард ФедоровичО СТАЛИНЕ НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ О СТАЛИНЕ: «активный и очень опасный член Российской социал-демократической рабочей партии... 17 августа 1911г.». НАЧАЛЬНИК ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПОЛКОВНИК КОНИССКИЙ О СТАЛИНЕ (ДЖУГАШВИЛИ): «Учитывая тот
автора Лобанов Михаил Петрович автораГИТЛЕР О СТАЛИНЕ «Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и Черчилля и Рузвельта. Это единственный мировой
Из книги Одиннадцатый удар товарища Сталина автора Шабалов Александр АркадьевичМАСОНЫ О СТАЛИНЕ Перед вами интереснейший исторический документ. Письмо посла временного правительства России в США Бахметьева Кусковой. (Оба видные масоны). ЦГАОР, Фонд 5865, опись 1, дело 41, март 1929 г.Печатается в сокращении.«Я лично думаю, что Сталин - искренний коммунист.
Из книги Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи автора Лобанов Михаил ПетровичЖ. Дюкло О Сталине …После моего возвращения на дачу мне сообщили, что тов. Сталин приглашает меня на обед на следующий день. Моя жена не была приглашена, и я отправился один. Сталин ждал меня в парке своей дачи, где я встретил также нескольких членов Политбюро ЦК
Из книги Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи автора Лобанов Михаил ПетровичО Гитлере или о Сталине? Работники всех видов искусств не только заявляли о своей пламенной поддержке, верности вождю в своих бесчисленных выступлениях, но и посвящали ему свое творчество. Это относится, прежде всего, к композитору Д. Шостаковичу, пятикратному лауреату
Из книги Сталин в жизни автора Гусляров ЕвгенийО СТАЛИНЕ И СТАЛИНИЗМЕ Прочитав рукопись этой книги, мне ничего не оставалось, как только добавить к ней несколько замечаний иного характера, более общего. Книга, как увидит читатель, касается сугубо частных моментов, личной, в какой-то степени интимной биографии Сталина.
Из книги Памятное. Книга 1. Новые горизонты автора Громыко Андрей АндреевичО Сталине на конференциях На Крымской, а впоследствии и на Потсдамской конференциях мне довелось работать и находиться вблизи Сталина. Рассказ вкратце о нем, возможно, заслуживает внимания. Рассказ о некоторых чертах его характера, его поведения, некоторых приемах
Из книги Сталин, Коба и Сосо. Молодой Сталин в исторических источниках автора Эдельман Ольга ВалериановнаВоспоминания о Сталине Среди разнообразных материалов, собранных в фонде 558, центральное место занимают воспоминания о Сталине. В фонде аккумулировались копии мемуаров большевиков; рассказы о Сталине, собранные и записанные усилиями Истпартов; непосредственно
Из книги Великие пророки современности автора Непомнящий Николай НиколаевичЛева о Сталине… Было бы неправильно, очевидно, не привести в работе двукратное упоминание Левой имени Сталина в дошедших до нас четырех известных ныне тетрадях Дневника. Записи эти довольно неприметны, обыденны, будничны и лишены пророческого содержания. Однако они
Из книги MMIX - Год Быка автора Романов Роман Из книги Всемирная история в изречениях и цитатах автора Душенко Константин ВасильевичПривожу поразивший меня отрывок из книги Феликса Чуева "Несписочный маршал" о Главкоме дальней авиации Голованове, который воевал в ВОВ под непосредственным руководством Сталина. Известно, что Голованов чрезвычайно высоко оценивал Сталина как государственного и военного деятеля. Ему, например. принадлежат следующие слова, взятые из его мемуаров: "...Его военный талант несравним ни с кем не только из наших военных деятелей, но и с любым военным или государственным деятелем капиталистических стран, в том числе и военных деятелей фашистской Германии.".
Интересно, что примерно тоже самое о Сталине сказал и Черчилль. При всем при этом, Голованов не был ослеплен величием самого Сталина и всего, что касалось вождя. Обратите внимание хотя бы на то, как Голованов проводит резкую контрастную черту между величием отца и убогой неприятной фигурой его сына - Василия Сталина.
Работа Чуева просто кишит интереснейшими фактами и подробностями о жизни и деятельности Верховного Главнокомандующего, приведшего нашу страну к победе в страшной войне.
Сосипатр Изрыгайлов
Несписочный маршал
…Странное дело - человека нет уже почти 20 лет, а не прошло, наверное и дня, чтобы я не вспомнил о нем и не услышал его слова:
Я тебе скажу следующее дело…
Знавал я многих крупных военных, даже с некоторыми самыми прославленными довелось не раз беседовать, и все-таки -Какой был маршал - Маршал Голованов?
Были у меня такие стихи...
Я познакомился с ним в 1968 году в Научно-исследовательском институте гражданской авиации, где работал инженером по летным испытаниям, а Главный маршал авиации (кстати, получивший это звание в 40 лет, самый молодой в мире!) заканчивал свою карьеру и должности заместителя начальника института по летной части, а практически — летал вторым пилотом на опытных самолетах. Такое только в России...
Его рано уволили на пенсию, после смерти Сталина. Просил работу, ответили: «Для ваших погонов у нас и должности нет!» И тогда он пошел летать в НИИ.
Его дедом по матери был Николай Кибальчич, да, да, тот самый молодой человек, но уже с траурной каймой бороды, тот самый революционер-народоволец, что готовил покушение на царя и был за это царем повешен. Тот самый, что перед самой казнью отправил из тюрьмы на высочайшее имя пакет с чертежами первого в мире космического летательного аппарата...
Вот такое родство...
А в октябре 1917 года 13-летний Голованов вступил в Красную гвардию — благо вымахал ростом под два метра и выглядел на все 16... Воевал на Южном фронте, работал в контрразведке. Принимал участие в аресте Бориса Савинкова, и пистолет знатного эсера хранился в столе у будущего маршала. В 21 год он носил четыре шпалы на петлицах — полковник по более поздним понятиям. Но, как спустя годы напишет о нем в своем досье Гитлеру немецкая разведка, «он сменил свою работу в партийных органах на профессию простого летчика, где также успешно проявил себя».
Он стал гражданским летчиком, быстро вырос до начальника Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота.
И—1937 год
Исключен из партии в Иркутске, чудом избежал ареста: друзья-чекисты предупредили, чтоб срочно уезжал в Москву, за правдой. В Москве с трудом устроился вторым пилотом. И добился правды: Комиссия партийного контроля выяснила, что исключен он ошибочно, более того, обнаружили документы о представлении его к ордену Ленина за работу в Сибири. Ему вновь предложили руководящую должность, уже в Москве, но он отказался и продолжал летать пилотом. Очень хорошим пилотом.
Когда я смотрел на него, видел в нем летчика «громовского плана». Дело в том, что я давно уже всех хороших летчиков делю на два типа: громовский и чкаловский. Так вот, Голованов, мне кажется, относился к громовскому складу характера в авиации. Хотя, конечно же, и у Громова, и у Чкалова было много общего: беспредельная любовь к своему делу, стремление быть первым. Оба мечтали облететь земной шар. Чкалову помешала внезапная, нелепая гибель, Громову — война.
Таким же был Голованов. Тоже мечтал о полете вокруг шарика. В 1938 году газеты писали о нем как о летчике-миллионере, то есть налетавшем миллион километров. Дальше — Халхин-Гол, финская кампания. Голованов летает, применяя передовое в самолетовождении — радионавигацию, точно выводит самолет на цель, выполняет с экипажем задание и возвращается на базу. Немногие тогда так летали.
Новый 1941 год шеф-пилот Аэрофлота Голованов встречал в Москве, в клубе летчиков, где теперь гостиница «Советская». Голованов сидел за столом с генеральным инспектором ВВС Яковом Владимировичем Смушкевичем. Смушкевич завел разговор о том, что наши летчики слабо подготовлены к полетам в плохую погоду, вне видимости земли, что показала Испания и особенно Финляндия. Летать по радио они не умеют, и у нас не придается должного значения этому делу.
— И вы должны об этом написать письмо товарищу Сталину, — сказал Смушкевич Голованову.
Много лет спустя мы вдвоем с Головановым читали это письмо.
«Товарищ Сталин! Европейская война показывает, какую огромную роль играет авиация при умелом, конечно, ее использовании. Англичане безошибочно летают на Берлин, Кельн и другие места, точно приходя к намеченным целям, независимо от состояния погоды и времени суток. Совершенно ясно, что кадры этой авиации хорошо подготовлены и натренированы...
Имея некоторый опыт и навыки в этих вопросах, я мог бы взяться за организацию и организовать соединение в 100—150 самолетов, которое отвечало бы последним требованиям, предъявляемым авиации, и которое летало бы не хуже англичан или немцев и являлось бы базой для ВВС в смысле кадров и дальнейшего увеличения количества соединений.
Дело это серьезное и ответственное, но, продумав все как следует, я пришел к твердому убеждению в том, что если мне дадут полную возможность в организации такого соединения и помогут мне в этом, то такое соединение вполне возможно создать. По этому вопросу я и решил, товарищ Сталин, обратиться к вам. Летчик Голованов».
С облегчением, что выполнил указание начальства, отправил письмо, однако не надеясь на то, что оно попадет к столь высокому адресату, а если и попадет, то станет ли Сталин читать письмо простого летчика1? Вскоре его очередной полет в Алма-Ату был прерван, срочно вызвали в Москву.
— Несколько раз звонил какой-то Маленков, - сказала жена
Вскоре снова позвонили, прислали машину, и Голованов оказался в кабинете секретаря ЦК Г. М. Маленкова, который после короткого разговора снова предложил сесть в машину. Не прошло и пяти минут, и они вошли в небольшой подъезд, поднялись на второй этаж. По кабинету от дальнего стола навстречу шел человек, знакомый всему миру по портретам.
— Здравствуйте,— сказал Сталин.— Мы видим, что вы действительно настоящий летчик, раз прилетели в такую погоду. Мы вот здесь,— он обвел присутствующих рукой,— ознакомились с вашей запиской, навели о вас справки, что вы за человек Предложение ваше считаем заслуживающим внимания, а вас считаем подходящим человеком для его выполнения.
Как во сне. Все снова, с нуля, началось для Голованова. Верней, не с нуля. С полка. Сталин присвоил Голованову звание подполковника. За три года он вырос до Главного маршала авиации. Небывало!
— Как к вам относился Сталин? — спросил я его
— Как я к тебе,— коротко ответил Александр Евгеньевич
В Подольском военном архиве мы вместе будем читать разработку немецкой разведки:
«Голованов, в числе немногих, имеет право на свободный доступ к Сталину, который называет его по имени в знак своего особого доверия».
— А ведь правда, называл,— улыбается Голова нов, снимая очки.— Откуда они все это узнали? Я тебе скажу следующее дело: я его ни разу не подвел, ни разу не обманул. А среди командующих такие были, и Сталин имел при себе средство против них: записную книжку — «колдуна», как он говорил, которую доставал из глубочайшего кармана брюк. В нее он записывал наиболее важные цифровые данные.
«Средство против брехунов типа Еременко и Жигарева»,— говорил Сталин.
В одну из самых первых наших встреч я напрямик сказал Голованову:
— Александр Евгеньевич! Немецкие полководцы написали горы фолиантов о том, как вы их разбили, а вы, наши маршалы Победы, ничего не рассказали.
Еще не было мемуаров Жукова, Рокоссовского, Конева...
— Да я не умею.
— Поможем.
— Не напечатают.
В этом была большая доля истины, хотя поначалу повезло: несколько исписанных маршалом ученических тетрадок я показал В. А. Кочетову, возглавлявшему журнал «Октябрь», и в июле 1969-го в журнале появились первые главы «Дальней бомбардировочной...» Голованова. Но тут-то и началось!
Своими прямыми, откровенными воспоминаниями Голованов как бы разворошил былое. Каждая новая публикация давалась с великим трудом и автору, и редактору журнала. Было, конечно, немало сторонников и союзников. Однако было много и высоких недругов, некоторые из них ныне стали «перестройщиками». Мемуары Голованова появлялись в «Октябре» с большими перерывами еще четыре раза, последний отрывок — в июле 1972 года. Были они набраны отдельной книгой в издательстве «Советская Россия», но по чьему-то злому умыслу ее рассыпали.
Я помогал маршалу, редактировал рукопись, добывал нужные материалы, но все — впустую. Неугоден-с. Книга вышла в Воениздате лишь в 1997 году, весьма сокращенная, мизерным тиражом.
— Я особенно им неудобен,— говорил Голованов,— потому что сам пострадал в 1937-м, мужа сестры моей расстреляли. Но я, работая со Сталиным, видел, какой это человек.
В последнюю нашу встречу с Головановым, когда ему оставались считанные дни, он лежал на даче, сломленный страшным недугом:
— Даже руки тебе не могу пожать. Давай попрощаемся с тобой по-испански: «Салют! Салют!» — Он с трудом поднял сжатую в кулак руку. Очень переживал, что не издана книга: — Какая-то букашка правит идеологией... Но придут люди из нашей России, Советской России, все напечатают!
Я понимал, что это будет не скоро, и все годы, как и при общении с Молотовым, вел подробнейший дневник, записывая каждую встречу. Сколько мне понарассказывал маршал Голованов!
Я всегда вижу его перед собой. Вот он сидит за столом в белой рубашке, крутит в руках расческу и, покашливая, начинает:
—Я тебе должен сказать следующее дело... Когда противен мир и не хочется жить, когда из года в год, изо дня в день над тобой измываются, оскорбляют и унижают животные разных уровней развития и общественного положения, думаешь: “Боже мой! Того мы все и стоим!” И не жаль становится ни прошлых жертв, ни будущих, и сам готов чуть ли не стрелять в любое омерзительное существо, у которого вместо бирки на шее почему-то имеется в кармане документ, удостоверяющий личность и гражданство, - вот тогда, чтобы остановить себя и не уподобляться стоящей перед тобой твари в человеческой одежде, я вспоминаю таких, как Александр Евгеньевич Голованов. И горжусь своей Родиной. Своим народом.
Награды
Приехали с братом на дачу к Голованову в Икшу Брат мой говорит, что у них в интернате ребята болтают, будто Сталин сам себе присвоил звание генералиссимуса.
— Я тебе должен сказать по этому поводу следующее,— начал Александр Евгеньевич. — У Сталина было очень немного наград, и каждый орден он получал только после согласия всех командующих. Никогда никаких орденов Сталин не носил. Это его только рисовали так. Исключение— звездочка Героя Социалистического Труда. Но тут была особая причина. Проснувшись в день своего рождения, он увидел эту звездочку, которую раньше никогда не носил, на своем свежевыглаженном кителе. Это дочь Светлана приколола. А у восточных людей есть обычай: если что-то сделала женщина, так должно и быть. С тех пор он и носил эту единственную звездочку до последних дней жизни.
Поздней осенью 1943 года в штаб к Голованову приехал генерал-полковник Е. И. Смирнов и привез обращение командующих в Президиум Верховного Совета с просьбой о награждении И.В. Сталина орденом Суворова. В обращении перечислялись его заслуги н войне против фашистских захватчиков.
— А почему я, подчиненный непосредственно Сталину, должен подписывать представление на своего руководителя? — спросил Голованов.
— Дело в том, что товарищ Сталин вообще отказался принимать эту награду и только по ходатайству командующих согласился,— ответил Ефим Иванович.
— Но здесь еще нет подписей. Мне как-то неудобно первым подписывать...
— Решили начать с тебя.
«Я подписал представление от чистого сердца,— вспоминал Голованов,— а в начале ноября 1943 года был опубликован Указ о награждении И.В. Сталина: «За правильное руководство операциями Красной Армии в Отечественной войне против немецких захватчиков и достигнутые успехи...» Я более чем уверен, что лаконичность и скупость формулировки Указа говорит о том, что его редакция не прошла мимо Сталина. Его награждали очень редко, и думаю, что его авторитет Мог бы значительно уменьшиться, допусти он слабость В этом вопросе.
Когда я приносил папку с награждениями, повышениями, Сталин расписывался на ней сверху, не глядя, только спрашивал: «Проверил? Все проверил?» И не дай бог, если б я ошибся!
Иногда Сталин вносил свои поправки, добавления. Летчика В. В. Пономаренко я неоднократно представлял к званию Героя, и, когда приносил очередную папку, Сталин спрашивал: «А Пономаренко здесь есть?» «Есть». Тогда Сталин развязывал тесемки папки, вычеркивал Пономаренко и против его фамилии писал: «Орден Ленина». Понижал награду на ранг. Дело в том, что Пономаренко после выполнения боевого задания садился в сложных условиях и на летном поле побил несколько самолетов. Его хотели судить, но я заступился. Однако Сталин помнил этот случай... Надо сказать, после войны Сталин прекратил все повышения генеральских званий, исключая случаи особых заслуг.
Когда мы прибыли из Сталинграда, были учреждены новые ордена — Суворова и Кутузова. Сталину принесли образцы. Он взял орден Суворова первой степени, сказал: «Вот кому он пойдет!» — и приколол мне на грудь. Вскоре вышел Указ...»
Этим главным полководческим орденом Голованов был награжден трижды. Мало у кого из наших полководцев было три ордена Суворова I степени. Даже у Жукова, по-моему, два. Во всяком случае, сами маршалы, с которыми мне приходилось общаться, придавали этому большое значение. Помню, умер один из полководцев, мы с Головановым читали некролог, и Александр Евгеньевич сказал: «А посмотри, сколько у него орденов Суворова?»
Маршальская звезда
Александр Евгеньевич показал мне свою Маршальскую Звезду — достал из ящика письменного стола? Как и большинство людей, я никогда раньше не дерг жал ее в руках. Она из золота и платины, чуть больше Звезды Героя СССР, в центре — большой бриллиант» в каждом из пяти лучей — мелкие.
— Ты знаешь, ее можно в комиссионку сдать,— сказал Голованов, — и за нее дадут 5 тысяч рублей.
Александр Евгеньевич ошибся. В 1977 году я выступал на ювелирной фабрике и узнал, что Маршальская Звезда— ее там изготовляют— стоит от 12,5 до 46 тысяч рублей, в зависимости от того, какие бриллианты.
В Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии, где прощались с маршалом Головановым, я прикалывал его Маршальскую Звезду к алой подушечке. Рядом стоял солдат, которому внушал офицер:
— Смотри за ней в оба! И еще орден Сухэ-Батора, вот тот, большой, могут спереть!
Любил русских...
— Сталин очень любил русских,— рассказывал Голованов. — Сколько раз Чкалов напивался у него до безобразия, а он все ему прощал — в его понимании русский человек должен быть таким, как Чкалов.
Сталин жалел, что не родился русским, говорил мне, что народ его не любит из-за того, что он грузин. Восточное происхождение сказывалось у него только в акценте и гостеприимстве. Я не встречал в своей жизни человека, который бы так болел за русский народ, как Сталин.
Сталин сам не представлял масштабов своего влияния. Если бы он знал, что скажет— и человек разорвется, а сделает, он бы много еще хорошего сделал. Но в нем жила трагедия, что он не русский.
Он подчеркивал, что во время войны у нас было выбито 30 миллионов человек, из них — 20 миллионов русских. А Сахаров и прочие написали письмо Брежневу: чтобы поправить экономическое положение страны, нужно упразднить нации— пусть, дескать, как в Америке будет...
А ведь пройдет каких-нибудь 50 лет, и люди удивятся, как это были какие-то споры о Сталине, когда очевидно, что он великий человек! Да, сейчас у нас преобладает центризм — боятся загибов в ту и другую стороны, что на руку левакам, и они сейчас торжествуют. Почему на Западе так боятся воскрешения имени Сталина? Почему так приемлем был для них Хрущев? Да потому, что они боятся своего конца! А Сталин к этому дело вел.
— Мне посчастливилось работать с великим, величайшим человеком, для которого выше интересов государства, выше интересов нашего народа ничего не было, который всю свою жизнь прожил не для себя и стремился сделать наше государство самым передовым и могучим в мире. И это говорю я, которого тоже не миновал 1937 год!
«37-й год мне понятен»
— 37-й год мне понятен, — говорил Голованов.— Были такие, как Хрущев, Мехлис — самые кровавые, а потом пошло массовое писание друг на друга, врагомания, шпиономания, еще черт знает что! Великая заслуга Сталина, я считаю, в том, что он все-таки понял и сумел остановить это дело.
То, что взяли Тухачевского и прочих, видимо, было правильно, начало было правильным. Но зачем забирали простых людей по всей стране? Решили избавиться от подлинных врагов, но потом стали писать друг на друга. Я знаю одного человека. Спрашиваю: «Писал?»— «Писал».— «Почему?»— «Боялся». А ведь никто не заставлял.
Тухачевский через несколько часов на всех написал. Ворошилов возмущался: «Что это за человек?» А Рокоссовский, как его ни истязали, никого не выдал. Надо тебе, Феликс, написать о нашей дружбе с Рокоссовским. Из общевойсковых полководцев он был самый любимый у Сталина...
Из прокуренной редакции журнала «Октябрь» мы выходим с Александром Евгеньевичем на улицу «Правды», в морозный день, в снежок, идем пешком до Белорусского, спускаемся в метро и расстаемся на «Площади Революции». Я говорю, что иду в ГУМ покупать лыжи — сегодня сломал лыжу на крутом, градусов 85, склоне, где никто не катается.
— Видимо, там угол выхода неподходящий, — сказал Александр Евгеньевич.
До встречи со Сталиным
— Сталин был человеком не робкого десятка,— рассказывал Голованов.— Когда я работал у Орджоникидзе, мне довелось присутствовать на испытаниях динамореактивного оружия, созданного Курчевским, предшественником создателей знаменитой «катюши». У Курчевского была пушка, которая могла стрелять с плеча. На испытания приехали члены Политбюро во главе со Сталиным. Первый выстрел был неудачным: снаряд, как бумеранг, полетел на руководство. Все успели упасть на землю. Комиссия потребовала прекратить испытания. Сталин встал, отряхнулся и сказал:
— Давайте еще попробуем!
Второй выстрел был более удачным. Со Сталиным я тогда еще не общался. До встречи со Сталиным,— продолжает Голованов,— я представлял его деспотом, кровавым тираном. И что же? Разговариваю с ним день, другой, месяц за месяцем, год за годом... Конечно, было у него мнение, что теперь наши враги не станут работать по мелочам, а постараются заслать своих агентов повыше, проникнуть в Кремль...
«Ещё бы! Конечно испытаем!»
Отставал Красноярский танковый завод. Решили назначить нового директора. Нарком предложил своего заместителя
— А сколько он получает? — спросил Сталин.
— Семь тысяч рублей
— А директор завода?
— Три тысячи рублей
— А он согласен туда поехать?
— Он коммунист, товарищ Сталин
— Мы все не эсеры,— ответил Сталин. Вызвали этого товарища.
— Есть мнение,— сказал Сталин,— назначить вас директором завода. Вы согласны?
— Если надо, поеду.
Сталин спросил у него о семье, детях.
— Давайте сделаем так: мы сохраним здесь для семьи вашу зарплату, а вы там, как директор, будете получать свои три тысячи. Согласны?
И человек с радостью поехал в Красноярск.
— Я тебе скажу следующее дело,— продолжает Голованов,— как-то Сталин приехал к летчикам-испытателям и стал выяснять, сколько потребуется времени для испытания одного весьма актуального самолета.
— Три месяца,— ответили ему.
— А за месяц нельзя испытать?
— Никак, товарищ Сталин.
— Сколько получит летчик за испытания?
— Двадцать тысяч рублей.
— А если заплатить сто тысяч, за месяц испытаете?
— Еще бы! Конечно испытаем!
— Будем платить сто тысяч, — сказал Сталин.
Кто из немецких полководцев?
— Кто из немецких полководцев во вторую мировую войну был наиболее силен? Манштейн? — спрашиваю.
— Фон Бок,— отвечает Александр Евгеньевич.— Его товарищ по академии попал в плен под Сталинградом и обратился с письмом к Боку, предлагая ему сдаться. Но как передать это личное письмо? Немец сказал, что, стоит только любому человеку на передовой показать, что у него есть письмо, адресованное фон Боку, — сразу пропустят. Такой авторитет. Наши послали офицера, одетого в немецкую форму. Тот пришел в штаб Бока, передал письмо и два часа дожидался ответа. Ответ, конечно, был отрицательным, но нашему офицеру выписали пропуск, и он благополучно прибыл к своим. Ну, правда, страху натерпелся, но никто его не тронул...
Это тот самый генерал-фельдмаршал фон Бок, который еще в августе 1941-го, когда немцы на всех парах перли к Москве, сказал Гитлеру, что войну Германия проиграла...
Новая форма
Голованов рассказывал, как во время войны и Красной Армии вводили погоны и новую форму. Буденный возражал против гимнастерок. С погонами не соглашался только Жуков. На некоторое время кабинет Сталина превратился и выставочный зал со всякими вариантами новой формы. Чего только не напридумали! И эполеты, и лента через плечо...
Сталин смотрел-смотрел и спросил:
— А какая форма была в царской армии? Принесли китель с капитанскими погонами.
— Сколько лет существовала эта форма? — спросил Сталин
Ему ответили: несколько десятилетий. Изменилось только количество пуговиц на кителе — было шесть, стало пять.
— Что же мы тут будем изобретать, если столько лет думали и лишь одну пуговицу сократили! Давайте введем эту форму, а там видно будет, — сказал Сталин
Любимый царь
— Любимым царем Сталина,— говорил Голованов,— был Алексей Михайлович, «Тишайший». Сталин часто приводил его в пример...
Быт Сталина
— Мне довелось наблюдать Сталина и в быту. Быт этот был поразительно скромен. Сталин владел лишь тем, что было на нем надето. Никаких гардеробов у него не существовало. Вся его жизнь заключалась в общении с людьми и в бесконечной работе. Явной его слабостью и отдыхом было кино. Много раз с ним я смотрел фильмы, часто одни и те же. У Сталина была удивительная способность, а может быть, потребность, многократно, подряд смотреть один и тот же фильм. Особенно с большим удовольствием смотрел он картину «Если завтра война», много- раз смотрел, причем даже в последний год войны. Видимо, этот фильм нравился ему потому, что события в нем развивались совсем не так, как оказалось на самом деле, однако победили все-таки мы! А сколько раз смотрел он созданный уже в годы войны «Полководец Кутузов»!
В его личной жизни не было чего-либо примечательного, особенного. Мне она казалась серой, бесцветной, видимо, потому, что в привычном нашем понимании ее у него просто не было.
Огромное количество людей каждый день бывали у Сталина — от самых простых до верхушки. Всегда с людьми, всегда в работе — так мне запомнилась его жизнь.
Василий
— Личная жизнь у Сталина не сложилась,— говорил Голованов. — Жена его, как известно, застрелилась, а дети возле него не прижились. Сын же его Василий представлял из себя морального урода и впитал столько отрицательных качеств, что хватило бы на тысячу подлецов. Насколько отец был кристаллический (так и сказал— кристаллический.— Ф. Ч.), настолько сын был мерзавец. Единственный, кто его обуздывал,— отец. Он боялся отца пуще огня, но становился все подлее.
Василий был лейтенантом на фронте, через год встречаю его майором, потом полковником — это все Жигарев старался, Главком ВВС. Он хотел получить новое здание для штаба ВВС и присмотрел дом на Пироговке. «Уговоришь отца, — сказал он Василию, — станешь полковником!» Но Василий боялся идти к отцу с этой просьбой. Жигарев посоветовал ему сразу к отцу не обращаться, а под проектом решения собрать подписи членов Политбюро, сказав им, что отец согласен. Василий так и сделал, а потом пошел к отцу, показав ему, что все согласны. Так Василий стал полковником, а здание это и поныне служит штабом ВВС.
Командовал он полком, состоявшим из одних Героев Советского Союза. Летали они мало, больше пили и безобразничали во главе со своим командиром. Дошло до отца. Тот спросил у Жигарева:
— А почему в полку все Герои, а командир полка — не Герой?
— Мы представляли, а вы несколько раз вычеркивали его из списков, товарищ Сталин.
Сталин приказал полк расформировать, Героев определить по разным частям, а Василия разжаловал в майоры.
Василий исправился, стал вести себя примерно, но, как только отец сменил гнев на милость, взялся за прежнее. Наконец у отца лопнуло терпение, он решил разжаловать его в рядовые и отправить в Сибирь.
Василий прибежал ко мне в слезах. И надо ж, умел прикинуться, что его все обижают, как ему трудно быть сыном Сталина. «Позвоните отцу,— попросил он, — отец вас любит, он вас послушает!»
Я никогда не звонил Сталину, — продолжает Голованов,— обычно он мне звонил. На сей раз я позвонил— при Василии. Сталин удивился, обрадовался, что я звоню. Спросил: «Наверно, что-то случилось?»
Я заступился за Василия, попросил не столь сурово его наказывать: «Ведь он еще очень молодой человек, а вокруг него столько всяких людей, желающих его использовать в своих целях!»
Сталин ответил: «Товарищ Голованов, я лучше знаю своего сына, а вам не рекомендую вмешиваться в чужие семейные дела!» — и положил трубку. Я развел руками.
Но Василий радостно бросился ко мне: «Спасибо вы меня спасли!» Как изучил своего отца! И действительно, ни в какую Сибирь он не поехал.
Василий был умен и изворотлив. Однажды приехал ко мне в штаб:
— Отец мне поручил инспектировать вашу авицию!
— Было бы правильнее, Василий Иосифович, если бы вы сказали, что отец поручил вам помочь нашей авиации!— осадил я его, и Василий ничего не возразил.
Но он меня отблагодарил за все доброе. После войны на Тушинском параде вылетел со своими истребителями в нарушение программы на минуту раньше меня и поломал мне в воздухе строй бомбардировщиков.
Сталин не раз понижал его в звании, сажал под домашний арест, в конце концов разжаловал в подполковники из генерал-лейтенантов, но вскоре помер...
Сталин уговорил маршала Тимошенко выдать его дочь за Василия:
— У вас такая хорошая семья, — может, ваша дочь на него повлияет. А если вам что-то не понравится, рубите обоих шашкой!
«Против Ленина не пойдём!»
— Сколько раз приходили к Сталину различные товарищи с проектами повышения ежемесячной квартирной платы! Известно, что у нас в стране квартплата невысока и далеко не окупает затрат на строительство. Увеличение ее могло бы существенно пополнить государственный бюджет.
Сталин в таких случаях отвечал:
— Владимир Ильич подчеркивал: «Квартира-это главное для рабочего, и ни в коем разе нельзя ущемлять его в этом». — И сделав характерный жест трубкой, Сталин заканчивал так:— Против Ленина не пойдем!
«И наоборот!»
— Как-то прихожу к Сталину,— рассказывал Голованов,— у него в кабинете верхом на стуле сидит Каганович— лысина багровая. Сталин ходит вокруг него:
— Ты что мне принес? Что это за список? Почему одни евреи?
Оказывается, Каганович принес на утверждение список руководства своего наркомата.
— Когда я был молодым, неопытным наркомнац,— сказал Сталин,— я принес Ленину просьбу одного наркома, еврея по национальности, назначить к нему зама, тоже еврея. «Товарищ Сталин! — сказал мне Владимир Ильич.— Запомните раз и навсегда и зарубите себе на носу на всю свою жизнь: если начальник еврей, то зам непременно должен быть русским, батенька, и наоборот! Иначе они за собой целый хвост потянут!»
Резким движением трубки Сталин отодвинул лежащий на столе список:
—- Против Ленина не пойдем!
Разбирает автомат
— Не раз я заставал Сталина — сидит на диване и разбирает какой-нибудь автомат Калашникова... Или с пулеметом возится, потом вызывает конструктора, что-то уточняет и дает советы — весьма дельные. Левая рука у него почти не работала, так он ею только поддерживает, а все делает правой. Было у него в молодости костное осложнение, когда бежал из ссылки и провалился в полынью. Самые лучшие люди
— Самые лучшие люди— на заводе, в поле, на аэродроме. Когда я в 37-м приехал в Москву без партбилета, кто меня спас, заслонил? Летчики, техники взяли меня в кольцо...
Штат купца Бугрова
Обсуждался вопрос об увеличении выпуска боевой техники. Нарком станкостроения Ефремов сказал, что такая возможность есть, но для этого нужна помощь и, в частности, необходимо увеличить управленческий аппарат до восьмисот человек.
Сталин, как обычно, ходил по кабинету и внимательно слушал Ефремова. Когда тот закончил, обратился к нему:
— Скажите, пожалуйста, вы слышали фамилию Бугров?,
— Нет, товарищ Сталин, такой фамилии я не слыхал.
— Тогда я вам скажу. Бугров был известным на всю волгу мукомолом. Все мельницы принадлежали ему. Лишь его мука продавалась в Поволжье. Ему принадлежал огромный флот. Оборот его торговли определялся многими миллионами рублей. Он имел огромные прибыли. — Сталин сделал короткую паузу и спросил: — Как вы думаете, каким штатом располагал Бугров для управления всем своим хозяйством, а также контролем за ним?
Ни Ефремов, ни остальные присутствующие не знали этого. Верховный ходил и молча набивал трубку. Наконец произнес:
— Раз вы все не знаете, я вам скажу. У Бугрова были: он сам, приказчик и бухгалтер, которому он платил двадцать пять тысяч рублей в год. Кроме того, бухгалтер имел бесплатную квартиру и ездил на бугровских лошадях. Видимо, бухгалтер стоил таких денег, зря Бугров платить ему не стал бы. Вот и весь штат. А ведь капиталист Бугров мог бы набрать и больше работников. Однако капиталист не будет тратить деньги, если это не вызывается крайней необходимостью, хотя деньги и являются его собственностью.— И, помолчав, подумав, Сталин продолжал: — У нас с вами собственных денег нет, они принадлежат не нам с вами, а народу, и потому относиться к ним мы должны особенно бережливо, зная, что распоряжаемся не своим добром. Вот мы и просим вас,— обратился к наркому Сталин,— посмотрите с этих позиций наши предложения и дайте нам их на подпись.
— Я не знаю,— говорил Голованов,— что представил Ефремов на утверждение Сталину, но в одном совершенно уверен, что числа в восемьсот человек там не было.
Генштаб
Не раз мы говорили о Генеральном штабе. Особенно после книг Штеменко и Василевского. Однажды я заметил:
— Василевский пишет, что Сталин не придавал значения роли Генштаба...
— А как он мог придавать, — откликнулся Голованов,— если до Сталинграда Генштаб был такая организация, которая неспособна была действовать и работать? Какое значение можно было придавать этому аппарату, который не в состоянии был собрать даже все необходимые материалы! Все основные предложения о ведении войны были от Сталина — я там каждый день бывал, а иногда и по нескольку раз в день.
Генеральный штаб войну проморгал — вот что такое Генеральный штаб!
И я, между прочим, пишу так: «Генеральный штаб и первый год войны особой роли не сыграл».
Жуков командовал дивизией, корпусом, округом. А что такое начальник Генштаба? Это человек, который все суммирует и докладывает без своего мнения, без навязывания идей, а когда все доложат, обсудят и спросят его мнение, он скажет. А Государственному комитету обороны решать эти вопросы. Как бы там ни было, Жуков показал бы документы — вот то, что происходит, это нападение на нас, это подтверждает заграница, а вот мнение Генерального штаба, — и расписался бы: начальник Генерального штаба такой-то. А почему этого не делали? Не делали потому, что Сталин говорил: «смотрите, это провокация!» И все хвосты поджали, к ядрене бабушке! Жуков— вон Василевский пишет: решение о боевой готовности приказали отдать в 8 часов вечера, а они только в час ночи передали, а в 4 часа уже немцы напали. С восьми до часу ночи! Это, знаешь что, за одно место нужно повесить за такие вещи! Василевский пишет: «Конечно, мы запоздали с этим делом».
Но мы же знаем, кто был начальником Генштаба. Каждый должен быть на своем месте. Когда козел ест капусту, а волк ягненка, это одно дело, а когда волк начинает капусту жрать, ничего не получается. Жуков полгода не просидел, наверно, на этом деле, его поставили на свое место — командовать фронтом, замом Верховного — вот это его место, это волевой человек, который имеет свое мнение, организаторские способности, умеет предвидеть и крутит на свой лад. Все стало на свои места, когда начальником Генштаба опять стал Шапошников. Жуков никаким начальником Генштаба не был и быть им не мог — для этого надо иметь не такой характер. В то же время работники Генштаба, когда их посылали на фронты, дело проваливали. У Василевского не получилось с командованием в 1945 году, а в Генштабе он был достойным преемником Шапошникова... Руководил лично Сталин
— У меня не было другого начальства, кроме Сталина. Я подчинялся только ему,— говорит Голованов.— У меня не было каких-либо других руководителей, кроме него, я бы даже подчеркнул — кроме лично его. С того момента, как я вступил в командование 81-й дивизией в августе 1941 года, в дальнейшем преобразованной в 3-ю авиационную дивизию дальнего действия Ставки Верховного Главнокомандования, а потом стал командующим АДД, кроме лично Сталина, никто не руководил ни моей деятельностью, ни деятельностью указанных мною соединений. Почему так решил Верховный, не поручил это кому-то другому из руководства, мне остается только догадываться. Покажется странным, но второго такого случая я не знаю, а все архивные документы однозначно подтверждают это.
Прямое, непосредственное общение со Сталиным дало мне возможность длительное время наблюдать за его деятельностью, стилем работы, как он общается с людьми, вникая в каждую мелочь.
Изучив человека, убедившись в его знаниях и способностях, он доверял ему, я бы сказал, безгранично. Но не дай Бог, как говорится, чтобы этот человек проявил себя где-то с плохой стороны. Сталин таких вещей не прощал никому. Он не раз говорил мне о тех трудностях, которые ему пришлось преодолевать после смерти Владимира Ильича, вести борьбу с различными уклонистами, даже с теми людьми, которым он бесконечно доверял, считал своими товарищами, как Бухарина, например, и оказался ими обманутым. Видимо, это развило в нем определенное недоверие к людям. Мне случалось убеждать его в безупречности того или иного человека, которого я рекомендовал на руководящую работу. Так было с А. И. Бергом в связи с его запиской по радиолокации и радиоэлектронике. Верховный подробно, с пристрастием расспрашивал все, что я знаю о нем, потом назначил заместителем председателя Госкомитета.
Кроме единственного случая с Берией, я не видел Сталина в гневе или в таком состоянии, чтобы он не мог держать себя в руках. Не помню случая, чтобы он грубо со мной разговаривал, хотя неприятные разговоры имели место. Дважды во время войны я подавал ему заявления с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Причиной тому были необъективные суждения о результатах боевой деятельности АДД, полученные им от некоторых товарищей. Бывает так, что, когда у самого дела не идут, хочется в оправдание на кого-то сослаться. Тон моих заявлений был не лучшим, но это не изменило отношения Сталина ко мне. Сталин всегда обращал внимание на существо дела и мало реагировал на форму изложения. Отношение его к людям соответствовало их труду и отношению к порученному делу. Работать с ним было не просто. Обладая сам широкими познаниями, он не терпел общих докладов и общих формулировок. Ответы должны были быть конкретными, предельно короткими и ясными. Если человек говорил долго, попусту, Сталин сразу указывал на незнание вопроса, мог сказать товарищу о его неспособности, но я не помню, чтоб он кого-нибудь оскорбил или унизил. Он констатировал факт. Способность говорить прямо в глаза и хорошее, и плохое, то, что он думает о человеке, была отличительной чертой Сталина. Длительное время работали с ним те, кто безупречно знал свое дело, умел его организовать и руководить. Способных и умных людей он уважал, порой не обращая внимания на серьезные недостатки в личных качествах человека.
Удельный вес Сталина в ходе Великой Отечественной войны был предельно высок как среди руководящих лиц Красной Армии, так и среди всех солдат и офицеров. Это неоспоримый факт.
Повторяю, я подчинялся только ему. Когда сначала Г. К. Жуков, а потом А. И. Антонов попросили у меня боевые донесения, я ответил, что докладываю лично Верховному...
Лопаты
В октябре 1941 года, в один из самых напряженных дней московской обороны, в Ставке обсуждалось применение 81-й авиационной дивизии, которой командовал Голованов. Неожиданно раздался телефонный звонок. Сталин не торопясь подошел к аппарату. При разговоре он никогда не прикладывал трубку к уху, а держал ее на расстоянии — громкость была такая, что находившийся неподалеку человек слышал все.
Звонил корпусной комиссар Степанов, член Военного Совета ВВС. Он доложил, что находится в Перхушкове, немного западнее Москвы, в штабе Западного фронта.
— Как там у вас дела? — спросил Сталин.
— Командование обеспокоено тем, что штаб фронта находится очень близко от переднего края обороны. Нужно его вывести на восток, за Москву, примерно в район Арзамаса. А командный пункт организовать на восточной окраине Москвы.
Воцарилось довольно долгое молчание.
— Товарищ Степанов, спросите в штабе, лопаты у них есть? — не повышая голоса, сказал Сталин.
— Сейчас. — И снова молчание.
— А какие лопаты, товарищ Сталин?
— Все равно какие.
— Сейчас... Лопаты есть, товарищ Сталин.
— Передайте товарищам, пусть берут лопаты и копают себе могилы. Штаб фронта останется в Перхушкове, а я останусь в Москве. До свидания. — Он произнес все это спокойно, не повышая голоса, без тени раздражения и не спеша положил трубку. Не спросил даже, кто именно ставит такие вопросы, хотя было Степанов звонить Сталину не стал бы.
А Верховный продолжил разговор с Головановым о его дивизии...
Средство против брехунов
— Как вы оцениваете командующего фронтом, где вы сейчас были? — спросил Сталин у Голованова.
Вопрос был неожиданным. Голованов знал, как Сталин мог отреагировать на мнение тех, кому он доверял, и поэтому не спешил с ответом. Речь шла о генерале Еременко.
Сталин понял и сказал:
— Ну хорошо, мы сегодня еще с вами встретимся. Вечером Голованов снова был на сталинской даче, и разговор продолжился — прежний разговор.
— Странный он какой-то человек, много обещает, но мало у него получается,— задумчиво сказал Сталин.— На войне, конечно, всякое может быть. Видишь, что человек что-то хочет сделать, но не получается, на то и война. А здесь что-то не то. Был я у него в августе на фронте. Встретил нас с целой группой репортеров, фотографов. Спрашиваю: это зачем? Отвечает: запечатлеть на память. Я ему говорю, не сниматься к вам приехали, а разобраться с вашими делами. Вот возьмите Смоленск, тогда и снимемся!
— Товарищ Сталин, считайте, что Смоленск уже взят! —- не задумываясь, отвечает он.
— Да вы хоть Духовщину-то возьмите! — говорю ему.
— Возьмем, товарищ Сталин!
— Конечно, ни Духовщины, ни тем более Смоленска он не взял, пришлось поручить Соколовскому. Сколько раз его перемещали туда-сюда, ничего у него не получается. Что за него держаться? —- в недоумении спросил Сталин.
«Мне стало ясно,— говорит Голованов,— что среди ответственных товарищей есть люди, заступающиеся за этого командующего, и Сталин прислушивается к их мнению, но в то же время очень сомневается».
От Александра Евгеньевича я слышал рассказ и о таком эпизоде. Осень 1941 года. А. Е. Голованов и командующий ВВС генерал-лейтенант П. Ф. Жигарев прибыли в Ставку. На одной из железнодорожных, станций намечалась разгрузка наших войск, и Сталин спросил Павла Федоровича, сможет ли он организовать прикрытие. Жигарев пообещал это сделать и вместе с Головановым уехал в штаб ВВС. Вызвал начальника штаба и дал указания выделить полк истребителей для прикрытия выгружавшейся дивизии. Начальник штаба тут же недоуменно ответил:
— Вы же знаете, товарищ командующий, что истребителей у нас нет.
В это время раздался звонок. Сталин спрашивал, даны ли указания о выделении прикрытия.
— Да, товарищ Сталин, даны,— ответил Жигарев. Начальник штаба и Голованов смотрели на него изумленными глазами.
«Так и не знаю, как он выкрутился из этого положения»,— говорил мне Голованов и вспомнил случай, когда Жигарев опять обманул Сталина, сказав, что заводы не поставляют ему самолеты. Сталин тут же, из кабинета, обзвонил все авиационные заводы, подробно записав, сколько на каждом из них скопилось самолетов, за которыми не прибыли с фронта».
В продолжение этого эпизода я приведу не пропущенный цензурой конца 60-х годов отрывок из головановских мемуаров «Дальняя бомбардировочная...»:
«Когда товарищи ушли, Сталин медленно подошел к Жигареву, одна из рук его стала подниматься.
«Неужели ударит?» - мелькнула у меня мысль.
Подлец! - с выражением глубочайшего презрения проговорил Сталин, и рука его опустилась. -
Быстрота, с которой ушел Павел Федорович, соответствовала его желаниям. Долго ходил Сталин, а я, глядя на него, думал, какую нужно иметь волю, какое самообладание, как умеет держать себя в руках этот изумительный человек, которого с каждым днем узнавал я все больше и больше, невольно чувствуя к нему уважение…
Что же он теперь будет делать с Жигаревым? Предаст его военно-полевому суду, как было сделано с Павловым? Но положение на фронтах сейчас не то, что было в июне-июле 1941 года. Наконец Сталин заговорил:
— Вот повоюй и поработай с этим человеком! Не знает даже, что творится в своей же епархии! Придется вам выправлять дело!»
Сталин хотел назначить Голованова командующим ВВС. Но молодой генерал отказался:
— Товарищ Сталин, мне бы с АДД справиться! Только начало что-то получаться...
— Жаль, очень жаль,— сказал Сталин, но согласился с Головановым.
У Сталина были брюки с очень глубокими карманами, откуда он иногда подолгу доставал замусоленную записную книжку — «колдуна» — и говорил:
— Это у меня средство против брехунов типа Еременко и Жигарева!
Надо сказать, что оба они, в общем, благополучно закончили войну, а при Хрущеве один стал Маршалом Советского Союза, другой — Главным маршалом авиации.
Зорге
— О том, что война с Германией неизбежна, было известно всем, имеющим отношение к военному делу,— говорит Голованов. Сталин был фактическим руководителем государства и нес ответственность за просчет в определении срока нападения Германии, он и сам указывал на этот свой просчет во время встречи с Рузвельтом и Черчиллем в Тегеране, ни на кого не сваливая вину. Однако надо прямо сказать, что его действия были результатом той информации, которой его питали. Известно, что начальник Главного разведывательного управления Красной Армии Ф. И. Голиков, да и не только он один, докладывал Сталину разведданные из зарубежных источников, подчеркивал, что считает эти сообщения провокационными. Есть документы. Об этом пишет в своей книге и Г. К. Жуков.
Все мы очень уважали С. К. Тимошенко — жаль, он не оставил никаких мемуаров. А это был очень честный и интересный человек! — И Голованов рассказал, как однажды, в 60-е годы, когда в Москве проходила международная встреча ветеранов, в перерыве С. К. Тимошенко пригласил пообедать Жукова, Конева, Тюленева, адмирала Кузнецова и Голованова. Заговорили о нашем разведчике Рихарде Зорге, о котором в то время впервые стали много писать.
— Никогда не думал, что у меня такой недобросовестный начальник штаба, —- сказал Тимошенко, имея в виду Жукова, — ничего не докладывал мне об этом разведчике.
— Я сам впервые о нем недавно узнал, — ответил Жуков.— И хотел спросить у вас, Семен Константинович, почему вы, нарком обороны, получив такие сведения от начальника Главного разведывательного управления, не поставили в известность Генеральный штаб?
Голованов отмечал, что Тимошенко всю жизнь был большим авторитетом для Жукова, Георгий Константинович всегда относился к нему с большим почтением
— Так это, наверно, был морской разведчик? — спросил Тимошенко Н. Г. Кузнецова
Но и Николай Герасимович ответил отрицательно. Так выяснилось, что ни начальник Генерального штаба, ни нарком обороны не знали о важных документах, которыми располагало Главное разведывательное управление...
Банкет с Черчилем
Рассказ об этом эпизоде я не раз слышал от Голованова, да и описание его есть в мемуарах маршала «Дальняя бомбардировочная...». Однако в печать прошло не все написанное Александром Евгеньевичем. Постараюсь воспроизвести и то, что было вырублено цензурой в 1971 году.
Голованов рассказывал, как в августе 1942 года его вызвал с фронта Сталин, что бывало нередко. Когда Голованов прибыл в Москву, Сталин позвонил ему в штаб АДД и сказал:
— Приведите себя в порядок, наденьте все ваши ордена и через час приезжайте.— Сталин положил трубку
«И прежде случалось,— пишет Голованов,— что Сталин, позвонив и поздоровавшись, давал те или иные указания, после чего сразу клал трубку. Это было уже привычно. Верховный имел обыкновение без всяких предисловий сразу приступать к тому или иному вопросу. А вот указаний надеть ордена и привести себя в порядок за год совместной работы я еще ни разу не получал.
Обычно я не носил никаких знаков отличия, и пришлось потрудиться, чтобы правильно прикрепить ордена на гимнастерке, почистить ее и пришить новый подворотничок.
Придя в назначенный час, я и вовсе был сбит с толку. Поскребышев направил меня в комнату, расположенную на одном этаже с Георгиевским залом. Там уже были К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, А. С. Щербаков и еще два-три человека. Вошел Сталин, не один. Рядом с ним я увидел высокого полного человека, в котором узнал Уинстона Черчилля, и какого-то военного, оказавшегося начальником английского генерального штаба Аланом Бруком. Сталин представил Черчиллю присутствующих, а когда очередь дошла до меня и он назвал мою довольно длинно звучащую должность, дав при этом соответствующую аттестацию, я почувствовал, что краснею. Черчилль очень внимательно, в упор разглядывал меня, и я читал в его взгляде некоторое изумление: как, мол, такой молодой парень может занимать столь высокую ответственную должность? Поскольку я был самым младшим, здоровался с Черчиллем последним. После представления Черчиллю всех нас Сталин пригласил к столу».
Далее Голованов рассказывал, что стол был небольшим, присутствовало человек десять или немного больше. Последовали тосты, и между Черчиллем и Сталиным возникло как бы негласное соревнование, кто больше выпьет. Черчилль подливал Сталину в рюмку то коньяк, то вино, Сталин — Черчиллю.
— Я переживал за Сталина,— вспоминал Александр Евгеньевич, — и часто смотрел на него. Сталин с неудовольствием взглянул на меня, а потом, когда Черчилля под руки вынесли с банкета, подошел ко мне: «Ты что на меня так смотрел? Когда решаются государственные дела — голова не пьянеет. Не бойся, России я не пропью, а он у меня завтра, как карась на сковородке, будет трепыхаться!»
В 1971 году это не напечатали. На полях верстки было написано: «Сталин так сказать не мог».
—Не мог! Да он мне это лично говорил! — воскликнул Голованов. В словах Сталина был резон, ибо Черчилль пьянел на глазах и начал говорить лишнее. Брук, стараясь это делать незаметно, то и дело тянул его за рукав. В поведении Сталина ничего не менялось, и он продолжал непринужденную беседу. Сталин видел в Черчилле человека, которого не объедешь, не обойдешь. Он говорил о нем: «Враг номер один, но более умного человека из всех, кого я знал, не встречал».
Приносящая победу....
В очередной раз вызванный с фронта в Москву, Голованов прибыл в столицу до рассвета и, решив, что в такой ранний час им никто не будет интересоваться, поехал навестить семью, тем более что родилась дочь, которую он еще не видел. Однако перед этим заехал Генштаб и сказал офицеру Евгению Усачеву, чтоб сразу, вызвал, если спросят. А кто может спросить командующего АДД, безупречно исполнительный Усачев знал.
Дома время летело быстро, из штаба не звонили, но в половине одиннадцатого Голованов решил все-таки поехать в штаб. Каково же было его удивление когда Усачев доложил, что его уже давно спрашивали
— Как же вы могли мне об этом не сообщить?, — возмутился Голованов.
— Мне было запрещено
— Кто же мог вам запретить?
— Товарищ Сталин
Оказывается, в десятом часу утра позвонил Верховный и спросил, прибыл ли Голованов и где он сейчас находится. Усачев доложил. Спросив фамилию офицера и занимаемую должность, Верховный сказал:
— Вот что, товарищ Усачев, Голованову вы не звоните и его не беспокойте, пока он сам не приедет или не позвонит, иначе вы больше не будете работать у Голованова. Когда он появится, передайте, чтоб он мне позвонил. Все ясно?
Разговор был окончен.
— Не мог же я, Александр Евгеньевич, не выполнить указание товарища Сталина,— сказал Усачев. «Конечно, он прав»,— подумал Голованов Не часто Сталин давал указания младшим офицерам. Да и кто бы посмел не выполнить? Раздался звонок. В трубке был голос Молотова. Голованова ждали на Ближней даче. Поехал, переживая. Еще бы! Отлучился из штаба, когда могли вызвать в любое время. Решил сразу извиниться. Однако, войдя в комнату, увидел улыбающегося Сталина и рядом Молотова
— Ну, с кем поздравить?— весело спросил Сталин.
— С дочкой, товарищ Сталин.
— Опять дочка? — Это была третья дочь у Голованова.— Ну, ничего, люди нам очень нужны. Как назвали?
— Вероника.
— Это что же за имя?
— Греческое имя. В переводе на русский — приносящая победу
— То, что нам нужно. Поздравляю вас!
Разговор перешел на другие темы. Сталин, обычно больше слушавший и мало говоривший, на этот раз сам стал рассказчиком. Он вспоминал побеги из ссылок, как провалился в прорубь на Волге и потом долго болел, как из-за плохой конспирации не удался побег Свердлова из Туруханского края... И вдруг без всякого перехода Сталин сказал:
— Полетим в Тегеран на встречу с Рузвельтом и Черчиллем
«Я не выдержал и улыбнулся,— вспоминал Голованов,— улыбнулся той осторожности, которой придерживался Сталин, видимо, всю жизнь, даже с людьми, которым доверяет. Нелегкая была жизнь у этого человека, когда приходилось разочаровываться в друзьях».
— Чему вы улыбаетесь?— спросил Сталин удивленно. Голованов промолчал. Сказать правду не решился, а неправду — не смог.
Немного помолчав, Сталин сказал:
— Об этом никто не должен знать, даже самые-близкие вам люди. Организуйте все так, чтобы самолеты и люди были готовы к полету, но не знали, куда и зачем. Нужно организовать дело, чтобы под руками были самолеты и в Баку, и в Тегеране, но никто не должен знать о нашем там присутствии.
Было решено, что Голованов также полетит в Тегеран, а Сталина повезет летчик Грачев, которого Голованов знал по полетам в Монголии. Как выяснилось позже, осторожность Сталина была весьма не лишней: немецкая разведка тщательно подготовила покушение на «Большую тройку» в Тегеране. Но на сей раз Сталин перехитрил Гитлера.
Сразу после Тегеранской конференции, 5 или 6 декабря 1943 года, Голованову позвонил Сталин и попросил приехать на дачу. Сталин был один. Он ходил в накинутой на плечи шинели. Поздоровался и сказал:
— Наверно, простудился. Как бы не заболеть воспалением легких
Он тяжело переносил такие заболевания. Немного походив, он неожиданно заговорил о себе:
— Вот все хорошее народ связывает с именем Сталина, угнетенные видят в этом имени светоч свободы, возможность порвать вековые цепи рабства. Конечно, такие волшебники бывают только в сказках, а в жизни даже самый хороший человек имеет свои недостатки, и у Сталинаих достаточно. Однако, если есть вера у людей, что, скажем, Сталин сможет их вызволить из неволи и рабства, такую веру нужно поддерживать, ибо она дает силу народам активно бороться за свое будущее.
«Змея!»
В конце 1943 года, в очередной раз приехав на дачу в Кунцево, Голованов открыл дверь в прихожую и услышал громкий голос Сталина:
— Сволочь! Подлец!
Голованов остановился в нерешительности. «Кого это он так? Может, сына, Василия? Пожалуй, не стоит к нему сейчас заходить». И Голованов собрался было уйти, но Сталин уже заметил его:
— Входите, входите!
В маленькой комнатке рядом с прихожей, где помещались всего лишь стол, стул и книжный шкаф, стоял Сталин. На подоконнике сидел Молотов. Спиной к Голованову стоял человек, которого он не сразу узнал.
— Посмотри на эту сволочь! — сказал Сталин Голованову, указывая настоящего.— Повернись! — скомандовал Сталин
Человек повернулся, и Голованов узнал Берию.
— Посмотри на этого гада, на этого мерзавца! Видишь? — показывая пальцем на Берию, продолжал Сталин
Голованов стоял, ничего не понимая.
— Сними очки!
Берия послушно снял пенсне.
— Видишь — змея! Ведь у него глаза змеиные! — воскликнул Сталин
«Я посмотрел, — вспоминает Голованов, — Сталин прав, действительно у него змеиные глаза!»
— Видел?— уже спокойно продолжил Сталин — А ведь у него прекрасное зрение, мелким бисером пишет, а очки носит с простыми стеклами. Вот почему он носит очки! Вячеслав у нас близорукий, плохо видит, потому носит пенсне. А у этого глаза змеиные!
Голованов стоял молча. В Сталине чувствовалась какая-то внутренняя борьба.
— Всего хорошего, — сказал Сталин, поднимая руку. — Встретимся позже.
У Сталина часто возникали сомнения по поводу Берии, считает Голованов.
— Но такие, как Хрущев, дружок Берии, который перед ним на брюхе ползал, все время разубеждали Сталина: «Да что вы, товарищ Сталин! Это преданнейший человек!» Боялись Берии. А Сталин его, было дело, по полгода не принимал. В последний год жизни Сталина чувствовалось, что дни Берии сочтены...
Ильюшин
Главным поставщиком самолетов для авиации дальнего действия было конструкторское бюро Сергея Владимировича Ильюшина. Его Ил-4 служили летчикам-дальникам всю войну.
— Несмотря на то, — вспоминал Голованов, — что самолеты Сергея Владимировича имели огромный удельный вес в Военно-Воздушных Силах, особенно знаменитые штурмовики Ил-2 — «Черная смерть», как прозвали этот самолет немцы, — сам конструктор был удивительно скромным, я бы сказал, малоприметным человеком. Его, как говорят, не было ни видно, ни слышно. Вторым таким человеком среди конструкторов был, по моему мнению, создатель непревзойденных истребителей Лавочкин...
Но Ильюшин при всей своей скромности был человеком твердым, и добиться от него изменений в конструкции его самолетов было весьма непросто.
Голованов рассказал такой эпизод. Радиус действия самолетов Ил-4 не позволял свободно летать по глубоким тылам противника и доставать такие объекты, как, скажем, Берлин. Дополнительная загрузка горючим увеличивала полетный вес самолета, и получалось, что надо было меньше брать бомб. Но об этом в ту пору не могло быть и речи. Значит, оставалось только одно: увеличить предельно допустимый полетный вес самолета, что разрешается только в исключительных случаях. Когда штаб АДД попросил Ильюшина увеличить этот вес на 500 килограммов, конструктор отказал.
Однако через некоторое время довольно часто стали появляться сообщения о налетах на Берлин и другие объекты противника, расположенные в глубоких тылах. Причем в сводках говорилось о налетах больших групп самолетов, наименования которых не упоминались. Ильюшин понимал, что либо летают его самолеты, либо в АДД появились какие-то новые машины с большим радиусом действия. И Сергей Владимирович приехал к Голованову:
— Александр Евгеньевич, вот вы Берлин бомбите, у вас что, новые машины появились?
— Летаем на вашей машине,— ответил Голованов.
— А как же с горючим, с бомбовой загрузкой?
— Подвешиваем дополнительные баки на 500 литров, а боевая загрузка — полная. Отличную машину вы сделали, Сергей Владимирович! У меня орлы прилетают — по три сотни пробоин, на честном слове тянут, а возвращаются!
Конструктор покачал головой и ничего не сказал. Но через некоторое время прислал официальное разрешение увеличить полетный вес его самолета.
— С таким полетным весом мы проработали всю войну,— говорит Голованов.— И когда летал! на предельный радиус, за счет увеличенного конструктором полетного веса брали дополнительную бомбовую нагрузку.
Удивительный человек! Другой сделает на грош, а раззвонит повсюду на рубль!
Голованов был весьма высокого мнения об Ильюшине, выделял его из всех наших авиационных конструкторов.
— Шла война, но думали о будущем,— говорил Александр Евгеньевич.— Ильюшин, создатель знаменитых штурмовиков и бомбардировщиков, выполнил новую задачу — сконструировал современный по тому времени пассажирский самолет. 2 августа 1944 года я подписал приказ о назначении макетной комиссии для заключения по двухмоторному магистральному пассажирскому самолету конструкции Героя Социалистического Труда С. В. Ильюшина. И вскоре на линиях Гражданского воздушного флота появился Ил-12...
АМЕТ-ХАН
Спрашиваю о недавней гибели дважды Героя Советского Союза Амет-хана Султана. Он испытывал двигатель, подвешенный под Ту-104. Двигатель в полете взорвался. Погиб легендарный военный летчик-истребитель, заслуженный испытатель. Он крымский татарин. На родине, в Алупке, откуда все его земтяки были выселены, ему тем не менее поставили памятник. Помню, как один из крымских татар, поэт?